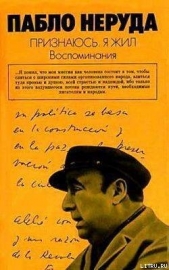Юность, 1974-8

Юность, 1974-8 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И персонажи его книг, оказавшись в обстоятельствах трудных и сложных, никогда не перегружены тяжестью этих обстоятельств. Жизненные положения, в которые они введены писателем, вполне реальны, лишены налета ложной идеализации, но вместе с тем как-то умягчены. Нет у Василия Белова в лучших его вещах таких противоречий, которые бы разрывали, раздваивали тело произведения. Оно устремлено к целостности, к гармонии. Это свойство натуры, а стало быть, и таланта. И задумываешься: а как же начиналось это свойство? Не с детских ли дней залегло в душу, с тех дней, когда ясные глаза ребенка жадно впитывают окружающее? Не от этих ли плавно качающихся холмов — начало? Не от этого ли озерка, что ровно и низко, что радостно гонит свою серо-голубую рябь к бархатистой кромке берега? Не от этой ли красы лесной, и радужно пестрой, и какой-то благостной?..
Под крылом самолета — облака. Больно тянутся вверх и в стороны, сплющиваются и развертываются, обнажают нежнейшие свои снежно-хлопковые ткани. Они белы, как свет. И это безвесомое раздвижение и вытягивание легко протекает над прозрачно-голубой пропастью неба. Опять холмы? Нет, далеко позади земля вологодская, земля северная…
Б. Рунин
Это стихи

Лет десять назад, когда я познакомился в Таллине с Паулем-Эриком Руммо, он был еще совсем юн и уже очень любим эстонской молодежью. Честно скажу, мне тогда не удалось проникнуть в тайны этой любви. Тщетно вчитывался я в неуклюжие строки, только что переведенные на русский, но поэзия неизменно ускользала от меня, предлагая взамен какие-то душевно необязательные комбинации слов.
Теперь я понимаю, что все очарование ранней лирики П.-Э. Руммо заключалось как раз в угловатости его первых эмоциональных постижений, в их демонстративном своеволии. Поэт бросался во все стороны с жадностью первооткрывателя, но драгоценная непосредственность и наивная еще пытливость исчезали в переводе, отчего многое выглядело прозаичным и излишне многозначительным. Свободный стих в таких случаях особенно коварен. На первый взгляд передать его содержание на другом языке проще простого. Отсутствие рифмы, «безразмерная» строка, строфическая вольность — все, казалось бы, сулит максимальное соответствие оригиналу. Но как легко утрачивается при этом самое вещество поэзии, ее летучие связи!
Однако поэт дождался своего переводчика. В прошлом году в Таллине издана книга П.-Э. Руммо «Стихи», в которой его лирика достойно «перевыражена» для нас молодым филологом Светланою Семененко, чей портрет по праву украшает супер наряду с портретом автора. Но дело, конечно, не только в мастерстве перевода. Книга является как бы избранным поэта на русском языке и позволяет с уверенностью говорить о его оригинальном даровании.
Если бы меня спросили, какие стихи наиболее характерны для нынешнего П.-Э. Руммо, я бы назвал прежде всего «Снова, снова…». Знакомый пчеловод рассказал поэту, как сгорели дотла его ульи. Таков зачин этого стихотворения, в общем-то не очень взволнованный, скорее информационно-повествовательный. Но, едва начавшись, стихотворение внезапно взрывается бурным прозаическим автокомментарием: «Это не стихи. Б стихах постепенно проясняется тема. Я ждал и ждал, а это не проясняется — и не уходит, и больше я не могу. Это не стихи. От стихов ждут подтекста, символики, скрытого смысла. Этого нет здесь. Это не стихи».
Самое любопытное, что после такого мучительного и сбивчивого признания, стихотворение преображается и обнаруживает свою скрытую энергию. Словно поэту, для того чтобы обрести полную свободу изъявления чувств, иногда необходимо перебить самого себя, собственную интонацию. Словно его поэтический синтаксис должен время от времени переходить в синтаксис прозаический и обратно. Словно из таких взаимопереходов и возникает пульсация его стиха. Вот и здесь вслед за комментарием, набранным прозой, идут волнующие стихотворные строки — картина пожара. В языках пламени, в облаке дыма и праха, на фоне растаявших сот мелькают обезумевшие пчелы. Они жалят пылающий воздух и гибнут как «печальные бабочки пепла».
Таков здесь, перефразируя слова Блока, жизни гибельный пожар. Уж это ли не стихи? Ведь вопреки заверениям автора здесь есть и драматизм чувства, и муки познания, и многозначный смысл. «Это не проясняется — и не уходит, и больше я не могу». Что ж, истинная поэзия только так и рождается — как необходимость и как избавление. Что же касается темы, то это стихи о назначении поэта, о его ответственности перед будущим. Потому что, кто, как не поэт, может понять и должен рассказать другим, «к чему же все это?».
И как странно, что рядом напечатано милое, простое, почти хрестоматийное стихотворение про божьих коровок! А перед ним — стихи о том, как «просыхает, словно слезы, легкий дождь в листах березы». И еще — стихи о том, как лаяла собачка у забора и накликала женихов. И стихи о песне жаворонка, о неугомонных шмелях, о солнцевороте, о радостях первого снега. Стихи, где поэт уподобляет себя звонкому сверчку, стихи, где «тетушка все вяжет, а клубочек скачет, а ежики все бродят, взяв друг дружку за руки…». Светлый, ясный мир, добрая природа, задумчивая, напевная, безмятежная интонация…
К тут же, через страницу или две — мир, полный испепеляющих страстей, жестокой борьбы, незатихающих войн, — проклятых вопросов бытия. Мир тревожных рефренов («я больше не могу»), болезненных синкоп, неожиданных ассоциаций, нескончаемых метафорических усложнений. Это какая-то другая сфера. Здесь поэт ведет трудный разговор со своим покойным другом актером Яном Саулем, пытаясь осмыслить жизнь художника как импровизацию и установить загадочное средостение между сценой и залом, между искусством и действительностью. Здесь он идет по следам своего тоже покойного друга, поэта Артура Алликсаара, стараясь убедить себя и других: «…Нет, нельзя боль воспевать, ужасно сла-виць страданье. Разве бабочка бьется в окно, чтоб себя оглушить? Поймайте последний вопрос ее глаз: почему, почему сквозь то, что прозрачно, нет на небо пути?..»
Словом, перед нами два разных мира, обособленных, не похожих один на другой. Вернее, две стороны сознания поэта: одна открыта радостям жизни, другая — трагизму жизни. Одна ориентирована на фольклор, другая — на ультрасовременные стихотворные новации. Как свести их воедино? И возможна ли тут цельность? Так возникает в творчестве П.-Э. Руммо беспокойная тема преодоления дробности, тема поиска жестких сцеплений. Поэт и жаждет и опасается их:
Отсутствие знаков препинания и здесь и в некоторых других стихах должно, очевидно, подчеркнуть лавинообразность этого обвала впечатлений, их внешнюю бессвязность, путаницу разрозненных зависимостей. Как же постигнуть в этой сумятице случайных фактов скрытый порядок вещей, истинные закономерности? Наверно, тут возможен такой путь: попробовать вписаться в историю и уже через нее осознать свою биографию, свой случай нравственного бытия.
Я думаю, что именно такая потребность вызвала к жизни «Старую киноленту», где П.-Э. Руммо пытается понять бури XX столетия с позиций человека шестидесятых годов. Впрочем, поэт и прежде не раз оглядывался на события прошлого, чтобы понять себя в настоящем. Например, в «Балладе об осколке в сердце» еще юношей он пытался осмыслить природу своей обостренной впечатлительности. Ведь он появился на свет в ту пору, когда люди почти не рождались, но погибали во множестве, — в том самом сорок втором, в ту самую ночь, когда солдат из-под Воронежа был ранен в грудь.
И «тот осколок б сердце у меня», — пришел тогда к выводу поэт, как бы устанавливая свою духовную общность с народом, свою эмоциональную родословную. В новой книге он подтвердил эту мысль своим все растущим беспокойством за судьбы современников, за судьбы культуры, за благополучие тех, «кто нам идет на смену».