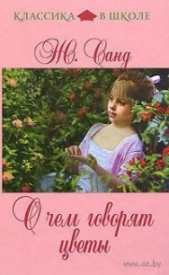Белые птицы вдали (сборник)

Белые птицы вдали (сборник) читать книгу онлайн
Роман «Долгая нива» и цикл рассказов составляют новую книгу прозы Михаила Горбунова.
Действие романа развертывается на Украине, охватывает период от предвоенных до первых послевоенных лет.
Рассказ «Белые птицы вдали» не случайно дал название сборнику — в нем поставлена волнующая писателя проблема: в какой мере минувшая война определяет жизненные позиции сегодняшнего поколения советских людей.
Живая связь прошлого и настоящего — характерная особенность книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не будет этого! — Кабук встал, защелкал кнутом по сапогам. — Там дурней поставили старостами, они все протрясут!
И вдруг как опомнился, застегнул полушубок.
— Ладно. Наговорились. Сладко в рот, горько в глот. Вот что, Яков Иванович, уходи подобру-поздорову из села. Я ведь не спрашиваю, откуда пришел. Откуда пришел — туда и уходи.
— Да куды ж?! Ой, хвора ж людына, куды ж идти? — стонала тетя Дуня.
Кабук заторопился.
— Я сказал, а там гляди. Ты меня пожалел! — Он дернул щекой. — Пожалел волк кобылу! Ну, я вроде должок тебе отдаю. А там гляди… Тогда уж мое дело — сторона, товарищ Зелинский! Не лю-ю-бят немцы коммунистов, не лю-ю-бят.
Кабук ждал, похлопывая по ладони кнутовищем. Яков Иванович молчал, его лицо выражало мучительное движение мысли. А кнутик постукивал, как секунды отсчитывал.
— Хорошо, уйду. Справку мне дай. — Это была не просьба — требование.
— Справку? — кнутик смолк. — Зайди, Артем, после обеда…
В ночь дядя Артем Соколюк увел из Сыровцов Якова Ивановича Зелинского…
Гудел ветер в печной трубе, где-то тоскливо, на одной ноте лаяла собака. Марийка не спала и слышала: не спит и тетя Дуня. Вот и еще одно расставание легло на сердце больной зарубкой, и сколько же их будет, этих зарубок? Уж все будто посечено, все кровит… А впереди снова — долгая, долгая нива.
Весна прошла в один небесный продых. Месиво мутной воды, сыро-сыпучей снежной зерни, вялых ниток желтой травы и ботвы в неделю свалилось к вербам, к реке, и потекло по дымчатой, будто бы знойной, луговине. И еще когда текло, натыкаясь на древесные стволы, навешивая им бороды тут же просыхающей, жухлой, тягуче шуршащей на ветру куги, — изумрудно обдались луга юной шелковой травой, запестрели одуванчики. А наверху, за селом, под высоким небом, наполненным бубенчиками жаворонков, широко текли в синие дали ждущие лемеха стерни да стерни…
Кабук, с первым алым загаром по, казалось, навек вобравшему в себя северной белизны лицу, с утра до ночи мотался по полям, нарезал землю — каждой хате по числу едоков. Люди шли с ним: голод в мир гонит… До того доделились — двое мужиков-соседей, грех сказать, кумовьев, погуляли друг по дружке межевыми кольями… Отделил Кабук и свое, да и батьково не забыл.
Ходил по дворам исхудавший, злой, глаза застлало мутной бычьей пленкой.
— Пахать! Пахать, мужики!
— Ты-то вспахал: на своей кляче вперед царя пячу.
— Я за свою клячу десять лет волком выл в Соловках.
— Нам это неведомо.
— Пахать, говорю, надо!
— На корове б пахал — немцы взяли, трактор бы…
— Трактор тебе советская власть не оставила.
— А корову немцы взяли.
— От мать вашу так… Микола, цыган, где ты? Гони своих коней, да чтоб молчал, как могила. Понял?
Из немецкого гарнизона, стоящего в Калиновке, поручили Сыровцам на выпас десять ломовых битюгов — таких в селе отродясь не видывали: не лошади — слоны. Коней, по родовой склонности, пас Микола.
На немецких лошадях, на коровенках — у кого уцелели, а то и сами впрягались в схороненные бог весть для чего сохи, ковыряли привыкшее к мощному тракторному лемеху поле; недоброй памяти чересполосица уродливыми, вкривь да вкось, клоками нелепо плясала за селом — глаза бы не смотрели. Пахал и Артем Соколюк — плужком, собранным из металлолома… От предложенного Кабуком коня отказался, впрягли Кару, и, если б не Марийка, имевшая на нее необъяснимое влияние, Кара и хозяина подняла бы на рога. Марийка водила Кару, Кара ревела от обиды, а шла. Не замечала Марийка острой стерни, с утра до ночи водила Кару, теплилось в ней подспудно — от этой земли всем придет спасение: и маме, и Насте с Грицьком… Не плачь, Кара!
Так и отпахались Сыровцы. Только осталась нетронутой огибающая село траншея со многими рукавами-отростками. Молодой травой схватились брустверы, и, если встать с одного конца, покажется: кто-то начертил на земле огромное, прогнутое ветром, но не сломленное дерево.
Мало было сил у Кабука, чтоб заровнять поле, «дерево» так и лежало за селом.
— Сеять, мужики, сеять! — надрывался Кабук.
— Ты-то засеял германским зерном свой кусище, а нам нечем.
— По сусекам поскреби.
— Зима подскребла, нынче хрен да редька — и то редко…
— От мать вашу так! Тебе вспаши, тебе засей, тебе дай яичко, да и облупленное.
— Сами бы осилили облупить — курей Франько положил в немецкий суп. А сеять как — себе или немцам?
— Опять сказка про белого бычка!
Сеяли по-дедовски, из лукошка, кто чего — ржицу, овес, просо, а кому уж нечего было скрести — посадил картошку, невесть как сбереженную.
Надежда была и на огороды: тут не хлебный злак в землю зарывать, гарбузы ели — семечки прятали: посиделок не устраивалось — лузгать негде было… На огороды надежда была и на сады.
В награду за муки, истощившие у сельчан дух и тело, небо с апреля забросало Сыровцы белыми и розовыми венками, сады тыны ломили молодыми ветвями в небывалом цвету… В награду, а может, в новое страшное наказание… По вечерам, когда полотна тумана стелились на реку и на луг, томительным теплом дышали недвижные, тяжело осыпанные лунным светом яблони, а со старых осокорей, до неба простёрших темные кроны, низвергалось соловьиное пенье, и тогда молодайки, не успевшие налюбиться, девчата, у которых была и вовсе отнята любовь, захлопывали окошки в хатах, комкали и обливали слезами ненужно мягкие, не от сладких ласк горячие подушки.
Была весна мукой и Кабуку. Пылил на бричке по улицам, изматерясь, собирал по хатам мала и велика поле пахать и жито сеять; старушки, примостившись рядком на призьбе в затертых кожушках и латаных чеботах, судили-рядили Кабука.
— Лютуе…
— Ой, лютуе!
— Залютуешь, як нема у хати ни тепла, ни ласки.
— Мается под Фроськиными окнами, а она як той кремень затвердела, а любыла колысь.
— А вин ще бильше распаляется.
— Скильки молодиць на сели, а йому одна в душу запала.
— Вона жде своего Мыхайла…
— Бидуе з малою дытыною, а все Кабукове видвертае…
— Свята душа…
— Э, не такий Кабук, щоб мыром видступыться.
— Що-то буде…
И вдруг пошел слух из одной хаты в другую: Михайло весть о себе дал — из плена. Почему-то передал не жене, Фросе, а матери, старой Устинье. Просил забрать в Сыровцы.
В чистое воскресное утро заливался над селом колокол — звал в церковь к ранишней службе. Колокол был невелик, до войны висел возле хаты колхозного правления — на случай пожара село поднимать. Конон при своем хилом сложении один втащил его на колокольню. Невелик был колокол и не тонкого литья, не малинового звона, но как бы там ни было, а все шло по закону мирскому, и к церкви, уютно прорисовывающейся в легкой, как туманец, зелени осокорей, ковыляли старушки в вынутых из скрынь белых ситцевых платочках. Конон стоял у ограды, зыркал глазами в обе стороны улицы: собирается ли сход?
В это же утро к Артему Соколюку въехала повозка. Не старый еще человек — Марийка видела его впервые — завернул к кузне, бросил вожжи в повозку, начал распрягать лошадь, дядя Артем помогал ему. Задержал он его недолго, проводил за подворье, вошел в хату озабоченный. Подала тетя Дуня снидать — от Марийки не ускользнуло: любимый свой кисляк ковырял как попало, не отрезал — в удовольствие — ровные маслянисто-белые пласты ложкой.
— Що це там той архангел блукае, дывысь, Артем.
В окошке, куда показывала тетя Дуня, виднелся Конон.
— Несет нелегкая, — процедил сквозь зубы дядя Артем.
На пороге Конон перекрестился, ища образа, пропел тоненько:
— Хлиб да с-и-ль!
— Просымо до столу, — тетя Дуня обмела фартуком скамью.
— Эге, сегодни ж недиля, ще и в церкви не отправилось, де ж там снидать. Гриха не боитесь, сусидко.
— Хиба ж це грих, поисты людыне, яка ж робота голодному?
— Ото ж воно и е! — поднял палец Конон. — Работа в недилю! Гриха не боитесь.
— Грех один, — сказал дядя Артем, гадливо глядя на Конона, — обидеть или обмануть. Несет вам баба Горпына последнее, чтоб отец Трифон кадилом пид носом попыхкал…