Рябиновый дождь
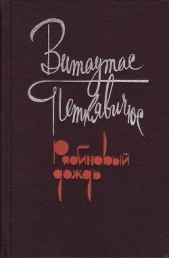
Рябиновый дождь читать книгу онлайн
Роман о сложных человеческих взаимоотношениях, правду о которых (каждый свою) рассказывают главные герои — каждый отстаивает право на любовь и ненависть, величие духа или подлость, жизнь для себя или окружающих. Автор задает вопрос и не находит ответа: бывает ли что-то однозначное в человеческой душе и человеческих поступках, ведь каждый из нас живет в обществе, взаимодействует с другими людьми и влияет на их судьбы. А борьба за свои убеждения и чувства, течение времени и калейдоскоп событий иссушают душу, обесценивает то, за что боролись. Или же есть надежда?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Почему?
— А потому, что есть лучше его.
Стасис покраснел, глаза его вспыхнули какой-то невысказанной надеждой, и он спросил:
— А я?
— Ты не боишься Вайчюлиса?
— Нисколько.
— Хорошо, что ты смелый, — успокоила она Стасиса и вздохнула, — но для меня ты, Стасис, слишком старый.
Жолинас как-то потух, опустил голову и попробовал защититься:
— Это ничего не значит, я ради тебя все могу…
— Мне ничего не надо. И скажи этому своему Вайчюлису, чтобы он не надоедал, а то, если я пожалуюсь старшему брату, он костей не соберет.
Как было бы хорошо, если бы и сейчас у меня было кому пожаловаться, думает Бируте и вспоминает, как терпеливо и долго училась она не замечать мальчиков, если они нравились ей, и как заставляла себя свободно и ласково разговаривать с теми, к которым относилась равнодушно. А когда троица Вайчюлиса не на шутку пристала к ней, Бируте уже чувствовала себя зрелой барышней по сравнению с этими самоуверенными дурачками. Поэтому она без большого труда обвела их вокруг пальца и высмеяла перед всей деревней.
Было воскресенье, когда они втроем стали ходить по пятам за Бируте. Другие девочки переживали из-за этого, плакали, бегали жаловаться родителям, а она постепенно, улыбками и разговорами заманила их далеко за городок, к тете, куда ее посылала мама. У тетиного дома она повернулась к ним, подошла и вежливо сказала:
— Спасибо, что проводили. Домой меня завтра дядя привезет, — и, гордо ступая по каменным ступенькам, поднялась на сверкающую цветными стеклами веранду.
А эти дурачки, не поверив ни единому ее слову, повертелись под окнами, повертелись и, несолоно хлебавши, под вечер поплелись домой. А она прикатила днем, когда все это видели, — постаралась, чтобы дядя въехал в деревню в тот час, когда дети стайками шли в школу.
Но Вайчюлис провалился под лед, простудился и умер. Его хоронила вся школа. И она чернилами написала на холщовой ленте: «Вечная память Витаутасу Вайчюлису. Покойся в мире». И, так как больше места не оставалось, добавила только две буквы — «Б» и «Г».
Она несла венок вместе с братом и плакала возле ямы потому, что так делали все; она носила траурную ленточку потому, что такие же ленточки нацепил весь класс, но она почувствовала и невольное, смешанное со страхом уважение к назойливому сорванцу, не раз обижавшему и даже оскорблявшему ее. В ту осень, когда выпал первый снег, он повалил ее на землю, растер лицо, а потом натолкал за пазуху белого и рыхлого снега. Запихивая снег, Витас ледяными пальцами схватил ее все еще растущую упругую грудь, больно стиснул… и сам испугался. Резко выдернув руку, он странно рассмеялся и быстро убежал.
Она страшно разозлилась, что он прикоснулся к этому почти священному, только ей и маме доступному месту, ее бесило, что она такая слабая, не может защитить себя, было страшно, что каждый мерзавец может унизить и обесчестить ее, как Казе… Бируте плакала, жаловалась Стасису, но все еще ощущала странный, опаливший ее огонь, который пробежал по телу, когда к нему прикоснулся Вайчюлисов Витас.
Смерть соседа заставила ее быстро позабыть обо всем. Бируте простила ему все обиды, все его выпады и оскорбления, но огонь, пробежавший по телу, продолжает волновать ее и по сей день, она видит себя молодой и красивой и никак не хочет пустить в душу эту тревожную, совсем не надолго остановившуюся за спиной осень.
И еще она помнит полную наивного удивления первородную радость открытия, которую она испытала, впервые увидев себя нагой в огромном и красивом зеркале с вырезанными на раме розами и двумя серьезными ангелочками, которые, подперев рукой подбородок, смотрели на каждого живым, пронизывающим взглядом.
Зеркало это выпало из телеги улепетывавших немецких приспешников, когда рядом с ними разорвался снаряд и вспугнул лошадей. Зеркало вывалилось через грядку телеги и так удачно застряло в сложенных в кучу вешалах, что ни у одного ангелочка даже крылышки не обломились. Мать строжайше запретила прикасаться к этой драгоценности.
— Что чужое, то не наше, — сказала она и строго огляделась.
— Что же, так и пропадать вещи? — Отец впервые при детях усомнился в ее правоте.
— На чужом добре не наживешься. — Она топнула ногой. — Ша!
Уловив разногласие родителей, братья тайком притащили зеркало и спрятали в баньке. Старший ходил туда причесываться новой алюминиевой расческой, а младшие приклеивали к зеркалу отмоченные почтовые марки, чтобы те ровнее высохли.
И вот однажды Бируте, напарившись, — мать еще мылась — вышла в предбанник одеваться и, когда брала полотенце, нечаянно сбросила тряпки, навешанные на зеркало. Она впервые увидела себя всю: от распущенных волос, ниспадающих на плечи, до ступней, оставляющих мокрые следы.
Бируте в оцепенении смотрела на себя и чувствовала, что эта незнакомая девушка, выглядывающая из зеркала, очень красива. Даже красивее, чем Казе и чем Анеле, о которой бабы в бане говорили, что она девка кровь с молоком, и чем Марцеле, и даже чем Косте, которой те же бабы прочили в мужья учителя… Стояла она, наверно, довольно долго, потому что она еще не начала одеваться, как ее пронзила страшная боль. Мать ударила ее кочергой по самому круглому месту и раскричалась:
— Ах ты, корова! Ах ты, распутница!.. Как тебя святая земля носит?! Отец, вынеси отсюда эту немецкую заразу, чтобы духу ее тут не было! — И начала так колотить по стеклу, что оно разлетелось на мелкие кусочки. В ярости скинула и ангелочков, расколотила раму, а потом, выбившись из сил, наивно призналась: — А я, дура, голову ломала, зачем людям такие огромные зеркала!..
От зеркала остались только изогнутые ножки, похожие на лапы льва, четыре ящичка, в которых отец потом держал гвозди и всякие там гайки, которые могут когда-нибудь пригодиться в хозяйстве.
Ей тогда шел шестнадцатый год, а мать за этот «смертный» грех целый месяц гоняла ее в костел, на исповедь, но она так и не осмелилась признаться в нем, только соврала, как научили подруги, что тайком смотрела на нехорошие картинки, принесла за это покаяние и вернулась домой злая, раздраженная, так как теперь у нее был не один, а уже два смертных греха.
Она не сердится за это на мать и судьбу не клянет, потому что то первое, горделивое ощущение собственной красоты никогда не оставляло ее, но уже довольно длительное время Бируте с беспредельной досадой чувствует, что красота ее никому не нужна, что детей у нее не будет и она не повторится в них.
«Я как будто меченая», — Бируте вспоминает, как пришел к ее калитке Пожайтисов Альгис. Семнадцатилетний парень, а уже солдат. Словно картинка из журнала — новая униформа, австрийская фуражка с длинным козырьком, немецкий ремень с пряжкой и какой-то надписью на ней. Пришел, вытер блестящие сапоги о связанный ею коврик, сел, вытащил алюминиевый портсигар и протянул отцу. Тот взял папиросу, размял ее пальцами, постучал о столешницу и спросил:
— А отец что?
— Это насчет курева?
— Хотя бы и насчет него.
— Солдату без этого нельзя. Когда прилетают американцы бомбить наши противовоздушные батареи, деваться некуда, а горячий дымок вроде помогает.
Отец немного помолчал и снова поинтересовался:
— Неужели бомбили?
— Да еще как, — густо покраснев, как можно равнодушнее ответил Альгис.
На сей раз отец молчал еще дольше. Мать громыхала кастрюлями, давая понять, что никакого угощения не будет. Потом мокрой тряпкой отшлепала и старшего, и младших братьев, как бы предостерегая их от этой немецкой «заразы», и спросила:
— Мать навестил?
— Успею, — ответил солдат.
— Ремня на вас нет.
Пожайтис, как и пристало мужчине, с ответом не торопился. Постучал, выбил вторую папиросу, размял ее пальцами и только тогда сказал:
— Что тут ремень!.. Может, завтра меня бомба с землей смешает…
Перед этой его правдой были бессильны и отец, и мать, и братья, и даже Бируте. А может, завтра их тоже?.. А может, других?.. Ибо уже который день по обоим шоссе бесконечным потоком тянутся отступающие войска.


























