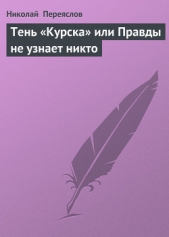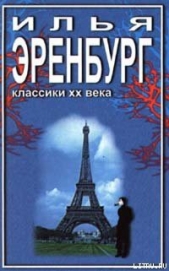Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней

Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней читать книгу онлайн
В книгу вошли романы "Любовь Жанны Ней" и "Жизнь и гибель Николая Курбова", принадлежащие к ранней прозе Ильи Эренбурга (1891–1967). Написанные в Берлине в начале 20-х годов, оба романа повествуют о любви и о революции, и трудно сказать, какой именно из этих мотивов приводит к гибели героев. Роман "Любовь Жанны Ней" не переиздавался с 1928 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Курбов, взволнованный, встает. Высокий, сильный, прямой, как кол. Да, это прежний Курбов! Вот лекарство от всяких сложностей: молочные, щенячьи глазки и древнее железное: «Не мог иначе». И Курбов обнимает Аша, прикладывается к личику, похожему на смятый лист бумаги, целует. Он ожил, как будто вылечился, одно кидает, захватанное, замаранное в пыли всех главков, в сале всех Сухаревок, и все же самое густое, самое торжественное слово:
— Товарищ!
После работал до трех. Хорошо работал. Разобрал все дело о польских шпионах. (Высоков не всегда прогадывал: на этот раз удалось ему изрядно напакостить.) Вышел: пора на заседание в Кремль.
Возле Театральной площади в глаза вскочил плакат — голубенький, пахший сухо-скошенными васильками и монпансье. Прочел:
«Дети — цветы жизни».
Как в детской сказке, эти цветы передвигались, продвигались навстречу, выстроенные парами, в одинаковых, мешковатых, уродливых платьицах. Детский дом. В дугах ножек, в глянце голодном глаз, скачущих вдогонку бабе с пирожками, во всей картинной истонченности, прозрачности был знак: не просто дети — цветы вот этих лет! Цветут наперекор Высоковым, Антанте, незасеянной площади, испорченным локомотивам, наперекор всему. Вгляделся в последнего: бутуз, важно, непреклонно семенящий — не отстать. Ему бы булку. Но он доволен — в руке трепещет самодельный флажок. Не забава взрослых — игра, а значит, большое и ответственное дело. Подымая навстречу ветру флажок, мальчик вовсе не улыбается — суровое довольство. И Курбов видит: знакомые глаза, сегодня утром они сияли в чеке, прекрасные глаза. Да, Аш — дитя! Он тоже, как надпись на плакате, цветок. А Курбов — взрослый. Курбов знает. Нет, не вылечился: снова отовсюду выскакивают гнусные вьюны и пересмешники: вопросительные знаки, скобки, томительные многоточия. Нежной улыбкой проводив флажок, идет печальный, очень, очень одинокий.
Пасть Кремля с зубами часовых. Дальше тихо. Оглядывает рассеянно кремлевские площади: нет, нехорошо!.. Неподходящая, злая резиденция. Конечно, другие любуются: история, архитектура, купола и голуби, словом, идиллия. Курбов чувствует иное. Здесь накопилась вся ханжеская пакость, все лицемерное бесстыдство огромной степи с кобылами, с царицами, которую звали «Русью». В центре Москвы, в центре всей России на самом пузе — огромный гнойный нарыв. Любуются? Понятно: и гной играет радугой. На лучше бы раздавить, снести. Здесь запах веков, отвратный запах сундуков с запревшими набрюшниками, с пропотевшими кацавейками. Здесь запечатлелись собачья угодливость, причитания, звериная жестокость (сапогом по харе), хамство, чаепития, шелудивые забавы — тихонько, под иконой, мерзостное рукоблудье, квасная лень с отрыжкой, с зевотой на все материки, здесь, в этих покоях, кельях и палатах. Тьфу!
Курбов с омерзением плюет на гнилую кремлевскую землю.
Заседание. Увидел всех.
Насмешливый слегка, простой, как шар (не это ли вожделенная фигура?). Слова расходятся спиралями. Точен — аппарат. Конденсированная воля в пиджачной банке. Пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сидьмя за книгами (или за кружкой бюргерского пива), а после в две недели ставший мифом, чье имя сводит равно с ума и пекинского кули, и джентльмена из Лидса, чуть испачканного угольной пылью. [42]
Доморощенный Бонапарт, шахматный игрок и вождь степных орд, вышколенных, выстроенных под знаменем двадцати одного пункта некой резолюции. Этот — треугольник. [43]
Трапеция — почтенный, в кашне. Как будто пьет чай вприкуску и брюзжит, а вдруг напишет что-то, и почтеннейшую дочку m-r Эйфеля явно разбирает дрожь. [44]
Молоденький, веселый. Идеальная прямая. Грызун — не попадись (впрочем, это только хороший аппетит, — вместе со смехом всем передается). «Enfant terrible», — говорят обиженные в разных реквизированных и уплотненных, здесь же очевидно — просто-напросто живой, не мощи: человек. [45] (Таким был задуман и Курбов, если б не вмешалась жизнь.)
Всех видел. Нахлынули какое-то семейное любование, преданность и теплая, шершавая нежность: здесь — свой, отсюда не уйду.
Тяжелое, неповоротливое заседание: не миноносец — баржа, перегруженная сводками, отчетами, цифрами. Голод. Редеющие города. Деревня, послушная и неприступная, ожидающая еще подачки: коммуны не хотим, а впрочем, все — большевики. Запад? Запад пока не поддержал. Значит…
Курбов видит героическую, притихшую Россию, ржавь машин, человеческую рвань. Высокое, эпическою напряжение: об этих годах уже готовы легенды. Нет даже ропота — шепот только: изнемогли. Октябрьская Россия ослабела, как цинготный, из десен кровь сочится, зубы готовы выпасть. И все же не предает! Даже в этой болезненности — великий миф. Кабацкая земля с мошной (по карману — звяк), с половыми и Стешами, с мадамами Жюльет из самого Парижа, с енотовой великодержавностью, вздыхающей над сомовской маркизой, [46] а между вздохами обмазывающей рожу человека соусом борделез, эта земля, «избранная Богом», обхарканная посему духовными и светскими персонами, стала просторной, голой, суровой, с Коминтерном и с восьмушкой глиняного хлеба. Закрытые лавки, кабаки забитые и забытые, никому не нужные бумажки. Кто забудет эти годы: девятнадцатый, двадцатый?.. Теперь — перелом. Значит…
А Запад? А Всемирная?.. И это видит Курбов. Границы. Последний маленький советик. Красноармеец без сапог, зато со звездою: если надо — умрет. (Сапоги были, будут, а звезды не каждый год, даже не каждый век падают с неба прямо на шапку.) А дальше — дальше огни, бутылки: жизнь. Почти как прежде, Европа раскачивается в фокстроте, перелицовывает фраки, пьет поддельные коктейли и целует юркий хвостик некоего таинственного существа: имя — «доллар», на пузе — портрет благообразного янки; может дать счастье, может мигом ликвидировать весь мир, на то он доллар. Где-то, в берлинском Нордене, в лохмотьях дохлой Вены, в бараках Круппом зацелованной Пикардии, рабочие вымирают, просто, без мифа, без Коминтерна, без звезды — так хочет фрак, так хочет доллар, так хочет фокстротская чечетка: вымирайте, только скромно, никаких демонстративных похорон. В сторонке сто социалистов деловито раскалываются, критикуют «пагубную тактику России» и обещают когда-нибудь, конечно… но теперь? Теперь нельзя. Да, конечно! Когда-нибудь вот эти вымирающие тихо, если только не окончательно вымрут, встанут, зевнут и примутся: дикий скрип раздираемых, крепких, почти нетленных долларов. Будут и у них свои Кронштадты. [47] Сена, Темза, Шпрее ничуть не хуже наших Моек и Фонтанок, все придет… Теперь же?.. «Теперь нельзя». Значит…
Так от докладов, сводок, речей, от счетов и выкладок родился пухлый младенец с отменно старческим лицом. Сразу, в люльке, рвался к аршину, требовал вина и лихача, хлопал о голенькую грудку, предчувствуя ее взбухание в виде солидного бумажника. Был мерзок. Составляли гороскоп (хотелось верить — не жилец). Окрестили: «Нэпо» (впрочем, имя было слишком итальянским, следовательно, романтическим, и вундеркинд через месяц, войдя в года, «о» выкинул).
Курбов, присутствуя при этих нерадостных родах, понимал: так надо. Не спорил. Только слышал под окнами глухое кудахтанье тех самых, что ужасно хотели жить. Нет, не свернули шеек!.. Не успели… Отводят место: до сих пор, не дальше… До сих пор цыплячий рай, а дальше суровая работа. Цыплята ж бойкачи, им не очень страшно.
Имя «Нэп» уже летело к Эйфелевой, и башня, хихикая, тряслась. Кадык гадал: может, бросить Высокова (столько денег ухлопали — все зря), стать полуангличанином и вырвать какую-нибудь жирненькую концессию? А князь Саб-Бабакин — писатель и председатель — уж волочил к вокзалу свои свисающие щеки: пока в Берлин, все-таки поближе к селянке по-московски, к святой рязанской и калужской. Зачем же ползать по подстилке «Монико»? Предвидятся ковры помягче, попушистей. Строчил наспех Манифест: «Я, князь Саб-Бабакин, того… слегка заблуждался… Большевики, оказывается, русские — рязанские, калужские…» Дальше ничего не выходило, все равно кого-нибудь попросит дописать. Главное — не опоздать бы!..