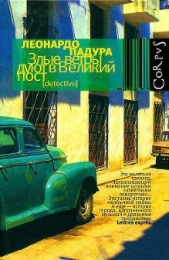Далекие ветры
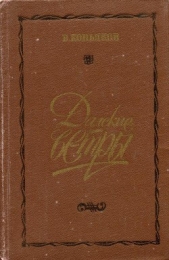
Далекие ветры читать книгу онлайн
Вошедшие в эту книгу новосибирского писателя В. Коньякова три повести («Снегири горят на снегу», «Далекие ветры» и «Димка и Журавлев») объединены темой современной деревни и внутренним родством главных героев, людей творческих, нравственные искания которых изображены автором художественно достоверно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я лежу на кровати, накинув на ноги шубу, не шевелюсь, равнодушно отмечаю, как неуютен весенний вечер, как сгущается темнота. Я не поднимаюсь и не включаю свет.
Юрки уже нет.
Какое тихое бывает одиночество и отчаянье! Я не плачу, только чувствую свои соленые губы.
За окном сибирская деревня. Андреева, а не моя. Она сложнее и значительнее моей. От сопричастности к ней что-то уже полнится во мне сильным и отчаянным упрямством.
XI
Сначала они шли втроем: Прокудин с трактористом Ерохиным и Пронек Кузеванов.
Прокудин с Ерохиным перебирали мотор в мастерских, а Пронек взвешивал выбракованных коров на ферме. Поравнялись на развилке дорог за огородами. И уже в деревне встретили Павлю.
— Ты даже не знаешь, куда мы идем? — шалопаисто уставились на нее. — К Уфимцевым. Картину смотреть. Андрей Пронька там изобразил. Ну! Пошли, нечего маяться. Поди, тоже еще не видела? А то он ее скоро увезет.
Меня не было в избе, когда они вошли. Я сколачивал под крышей на верстаке футляр из фанеры, чтобы упаковать свою картину: мне не хотелось снимать ее с подрамника и сворачивать в рулон.
Рамку для картины я закажу в багетных мастерских художественного фонда.
Я успевал к выставкому. Если картина получит одобрение — попадет на республиканскую выставку.
Эта последняя моя работа не отпускала меня, преследовала, как неотвязная обременительная радость.
У меня был диплом, сотни этюдов, портреты заводских парней, экспонированных на всесоюзной выставке. Но все это, казалось мне теперь, было подступами, постановкой художественной воли. К этой я проламывался в полную силу. В других работах я что-то искал, в этой на художнике в себе настаиваю.
Я впервые легко написал картину. Родилась она быстро, и мне нужно было от нее опомниться. Я представлял выставочную комиссию и спешил в город, к друзьям.
Я складывал на верстаке ящичек с гвоздями, ножовку, молоток. Мать еще не пришла с работы, и я не торопился в избу. Думал, что картину придется отправлять багажом, а из-за размеров железнодорожная почта заартачится. При перегрузках фанеру могут проломить, холст порвать (я видел, как разгружаются на товарных станциях посылки), хорошо бы напроситься в почтовый вагон сопровождать картину.
Был вечер. Задумавшись, я прошел через сенцы. В другой половине избы за раскрытой дверью разговаривали. Мой приход не заметили. Не приближаясь к двери, издали я увидел мужиков. Прокудин сидел на табуретке возле незакрытого этюдника, Ерохин с Кузевановым на кровати, за ними, прижавшись спиной к повешенным на стенку пальто, — Павля.
При мягком, падающем из окон свете лица мужчин были холодны. Я не знал, как освещалась при этих сумерках картина, я видел только людей.
— С чего ты взял, что ты такой? — не поворачивая лица, говорил Прокудин. — Смотрю и соображаю… Сколько лет жил рядом с тобой и думал, что ты дурак дураком. Ну-ка, глянь на меня, — обратился он к Проньку и кивнул на картину. — Ведь не он на тебя, а ты на него похож. Здесь что вышло… Андрей вроде снял с тебя всю дурь. Не обижайся… Я ведь так. Насмотрюсь и после этого еще больше тебя зауважаю. Надо же… Он — как? На тебя смотрел и рисовал? Ты шевелился или как?
— Свободно, — сказал Пронек. — Разговаривали. Только он замолкал когда. Вроде отключался.
— Глаза у тебя! Как свет сквозь воду. Ты хоть смотрел когда на себя в зеркало? А Дмитрий Алексеевич… Ну дед! «Ах, едят вас мухи». «Драгоценные мои люди!» И зуб в точности. Ишь, ашширяется. Выпить приглашает… Хоть раз бы взглянуть, как у Андрея это получается… Я свинью с ним колол, разговаривал… А он ничего про себя не рассказал…
Замолчали.
Пропахшие бензином мужики сидели без циничных подначек, без ерничанья. Рядом с ними девочка замерла, остановилась на полувздохе и не проронила ни слова. Не встревал с разговорами шалопаистый Кузеванов. Все были сегодня моими гостями.
Сколько раз я напрашивался к Прокудину на комбайн, и он, подавая руку, поднимал меня, еще студента, на сиденье и, облепленный осотовым пухом, протягивал очки. «Все учишься?» — спрашивал, наклоняясь. И не догадывался, что́ я видел оттуда.
Я помню его ночью на гусеничном тракторе в сполохах огня, гудящего в ведре. От трактора шибало железным морозом — лицо каменело, — сорокаградусный мороз у деревянных стен был терпимей. А он готовил трактор, жег солярку. Мы, собравшись ехать за дровами, ждали, когда трактор заведется. Прокудин не искал сочувствия, не чертыхался, не снисходил до просьбы помочь. В своем деле он был над нами. Любая работа в колхозе для него — непреложность. В деревне Прокудин был надежен.
Ерохин, многосемейный флегматик, равнодушный ко всему на свете, кроме своего трактора, с глубокой отрешенностью сидел перед незнакомым видением и не слушал, что буробит Прокудин. Эти мужики вызывали во мне доверие. Они не знали, что такое поза.
Мне не нужны уже были отзывы о моей картине. Я видел лица людей перед нею, и мне хватало их молчания в сумеречной комнате.
— Тебе не жалко ее отдавать? — спросили у Пронька. — Здесь же ты. Это как-то неправильно… Вроде ты себя отдавал, отдавал… Получился… А тебя без спроса увезут. Неправильно… — повторил, не соглашаясь, Прокудин. Наклонился к этюднику, взял тюбик краски. Он показался ему тяжелым. Повзвешивал его на ладони, стал откручивать колпачок. Повернулся к Павле.
— Э-э… ты вроде испуганная, Давай губы намажу. Сразу кому-нибудь понравишься, Я знаю, с кем ты провожалась…
Павля тяжело посмотрела на него, и Прокудин отстал. Громко удивился:
— А что это Андрея нет? И дом нараспашку. Наверно, сегодня кочегарит?
— Мужики, об отсутствующих не говорят.
Я шагнул к ним.
— Мы тут расположились. Без спросу.
— Андрей, ты колхозник и колхозник. За дровами ездишь, сено возишь. Кочегаром заделался… Что-то тут не то! Что-то непонятно. Ты притворяешься, выходит? Теперь у нас разговор есть…
— Сначала разденемся, — сказал я. — А если мы чуть мать подождем? У меня кой-какие запасы есть.
— Подождем. Вот что скажи… — Вся инициатива была у Прокудина. Пронек держался отчужденно. Мне казалось, что он старше других.
— Так что сказать? — готовый к ответу, спросил я.
И присел на подоконник.
XII
Шоферы еще не пришли, когда я сдал дежурство Дмитрию Алексеевичу. Было раннее утро. Свежее колебание воздуха над землей холодило лицо. С тяжелых от работы рук сходила усталость. Я отдавался весне и впервые никуда не спешил.
Навстречу мне в тени плотной ограды шла Катя Холшевникова. Чтобы не ступать в грязь, она перехватывалась руками за колья, осторожно выбирая протоптанные следы на бровке. Разойтись было невозможно, и, уступая дорогу, я сполз ботинками в грязь.
Катя остановилась в неожиданном замешательстве, не готовая что-либо сказать. На ее лице под нахлобученным платком лежала милая нежная измученность.
Затянувшееся молчание пугало.
— Ты картину свою уже закончил?
— Да. Я ее отправляю.
— Отправляешь? А я хотела Колю Портнягина к тебе прислать. Посмотреть. Он успеет?
Мы оба понимали, что совсем, совсем не о том сейчас говорим. Но чтобы я не думал так, с неумолимой недоступностью потребовала:
— Ну, я пойду?
Она пересекла переулок, постояла у дощатой веранды школы, неторопливо выдавливая каблуками сапожек узоры в оттаявшей земле, и, будто опомнившись, взбежала по высоким ступенькам.
1968
ДАЛЕКИЕ ВЕТРЫ

I

Старик медленно шел вдоль плетня. Он всегда ждал прихода весны, любил мягкие сумеречные дни без теней и солнца. Ступал он валенками по снежной хляби безразлично и отрешенно.