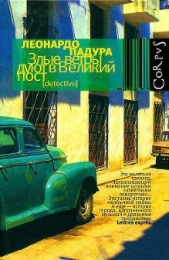Далекие ветры
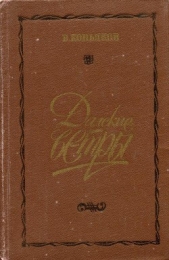
Далекие ветры читать книгу онлайн
Вошедшие в эту книгу новосибирского писателя В. Коньякова три повести («Снегири горят на снегу», «Далекие ветры» и «Димка и Журавлев») объединены темой современной деревни и внутренним родством главных героев, людей творческих, нравственные искания которых изображены автором художественно достоверно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ладно… Не уводи собрание в сторону.
Женщина оглядела ряды, но не нашла, кто ее одернул, ненавидяще села.
— Кричим, кричим… А кого выкричим? — грузный мужчина в шубе-борчатке прошел по ряду, прихрамывая, волоча ногу, остановился у сцены. — Это навалилась на нас стихия. Председатель не предусмотрел. Он машины зачем в гараж ставил? Чтоб теплее. Заботился об общем деле. Даже когда ему надо дома быть — он сам машины затаскивал. Теперь мы его ударим, у него руки опустятся, он трекнется и бросит все. И кому мы этим напортим? Я думаю, это дело надо загасить и сообща как-нибудь справиться.
Женщины, что сидели рядом со мной, непроизвольно прокомментировали:
— Справимся… Легко как… Ты их видела, мертвых-то?
— Прибегала. Смотреть страшно. Ровные, как один. Да их сразу же председатель на птицеферму отправил — курам на корм.
Я сидела и слышала, что зал, как единый организм, активно и мучительно подбирался к истине. Кто-то сказал вслух, не поднимаясь:
— В государство надо было сдать, Поросята бы росли, и мы деньги получили бы.
— Т-ш-ш-ш… — зашикали сзади. — Тише ты. Еще не насдавался. Подскажи… Это легче легкого… Сдал и весь год носом шмыгай.
Председатель молчал, смотрел перед собой. Лицо его было безучастно, и собрание его не чувствовало.
Мнения качали зал, как лодку-болтанку, — то вспыхивали, то вдруг затаивались. Я была в эпицентре общей беды. Я видела себя на городском базаре, подходила к торговке, что с неприступным терпением сфинкса продавала карандашной толщины связочки укропа по пятнадцать копеек.
— Это же на один борщ не хватит — и пятнадцать копеек? И на старые деньги такой пучок пятнадцать копеек стоил.
— Иди, иди… Дорого… Ты его сама порасти, — считая меня дурой, с уничижительным превосходством отгоняла торговка.
Она знала, что я снова вернусь к ней и куплю этот ее укроп. Я покупала. Но испытывала ли она радость, когда я уходила от нее с покупкой? И могла ли я сейчас упрекнуть этих людей в чем-то? Это их жизнь. От этого зависело их благополучие.
Я думала: «Неужели им все равно, как приходит к ним достаток?»
А в зале искали виновных, что должны пополнить потерю.
И когда предложили: «Передать дело в суд. Прокурор разберется, найдет и правых и виновных», — настороженно притих зал.
— Дурное дело нехитрое.
В притаившейся тишине люди почувствовали, что установившийся порядок жизни их под угрозой.
Тогда стали голосовать.
«Кто за то, чтобы гибель поросят отнести за счет стихийного бедствия, прошу поднять руку».
Голосовали. Почти все. Против не было. Против не было даже руки той доярки, что со слезами кричала с заднего ряда.
Вот тогда у председателя и появилась живинка, хотя в ней еще не было прежней силы.
— Товарищи колхозники. Все собрание я молчал. Вы, вероятно, сами заметили. Это, чтобы после не говорили, что я давил на собрание. Я ни слова не сказал. Вы все сами решили. И я верил, что вы решите по-справедливому. А теперь я скажу. — Он подошел к краю сцены. В голосе его уже была доверительность. — Ущерб наш не на ту сумму, которую я назвал вначале. Если бы его начислили на меня и других, если бы за него пришлось расплачиваться, то фактическая наша потеря совсем другая. На базаре мы продаем поросенка по семьдесят пять рублей, но государственная его стоимость — двадцать пять. Все колхозы сдают мясо живым весом по этой цене. И мы свой план сдали по такой же цене. Значит, убыток наш не шесть тысяч в базарных ценах, а две тысячи.
Вы теперь опасаетесь, что, мол, нечем нам будет рассчитаться на трудодни. Раз так… Я обещал. Раз обещал — то найду. Сотню поросят мы еще продадим. Как я выяснил, в ближайшее время в области поросят ни один совхоз продавать не будет, а последними постановлениями правительства разрешено в городах держать скот. Мы используем создавшуюся конъюнктуру, и сотню поросят у нас возьмут даже по восемьдесят рублей. Поросята у нас хорошие. Значит, и в этом месяце на трудодни вы получите.
Все было правильно… Люди сообща решали свою жизнь.
А мои чувства были неопределенны. Мне казалось, что-то произошло недоброе. Что я ждала? Ведь все было правильно, все было честно. Люди имели право так решать. И решение их было самым гуманным. Но решали это они — будто знали, что идут на что-то неузаконенное, с потайной оглядкой, и идут сообща.
И мне не нравилось это их «сообща». Не нравилась тенденция что-то решать таясь. Тенденция решать шепотом. А ведь я думала, что это для них я писала статью о Чекине, о внуках деда Подзорова.
Но меня не помнили. Люди себя не пересматривали. Председатель знал, что у них глубоко, а я была легка, как поплавок, со своими идиллическими надстройками.
X
— Ты когда приехал-то?
— Утром.
— Не отдыхал. Холст какой натянул! Что ли, большое хочешь начинать?
Мама постояла и призналась:
— Я посмотрю, как мужики приходят на твои картины смотреть. Сидят перед ними смирно, у меня и горе будто проходит. Думаю: хоть и денег у тебя за них нету, все равно пусть смотрят. И даже радость какая-то. Мужики — они ведь серьезные, им все всегда много знать хочется. А тебе, если в деревне понравилось, и работай. Как-нибудь проживем… Ой, что я стою?..
Она будто испугалась, но от усталости ничто в ней не встрепенулось.
— Ты и не ел ничего, наверно?
— Побудь немножко со мной, мама. Я давно тебя не видел, не смотрел на тебя. Когда-нибудь мы с тобой получим деньги. Много денег. Кофту тебе купим — самую лучшую, какие только есть на свете. Платок оренбургский — мягкий и красивый, — ты никогда таких не видела.
Мама смутилась от непривычного внимания, хотела уйти.
— Ты и так много чего-то навез в коробках.
— Краски.
— Все деньги, наверно, истратил? А в рубашке какой уехал, в такой и приехал.
— Вот и нет. Какие ботинки купил! Сейчас покажу. — Я достал чехословацкие туфли. — Нравятся?
Мама молчала в тихой обалделости.
— Ой… нехороши. Носы шибко острые, как на смех… Клоуну. Надеть стыдно.
— Сейчас такие носят.
— Носи, если тебе хорошо. Только в деревне ведь, если наденешь, мне все равно будет стыдно.
— Ладно, ма, обещаю — при тебе не надену.
— А мы сегодня картошку перебирать закончили. Изнастались. Пойдем есть. Щи из печки доставал? — Она открыла заслонку. — Пока ты ездил, ой, что здесь было! Катя Холшевникова в газете про нас написала, И про Подзорова, и про Чекина. Вся деревня читала. Голумели три дня. Она ведь теперь учительницей работает. А Пронек встретил в конторе Чекина, возьми ему да скажи: «Ну как, газету видел? Теперь с тебя борчатку снимут». Сережка Чекин собрался со своими дружками, напился в воскресенье и пришел к клубу Пронька искать. А там плотники из города деньги получали, домой собрались, и тоже пьяные, Те, дескать, городские, а эти наши — боксеры, агроном их учит. Ну, слово за слово — и… что тут началось!.. Губы поразбивали, кровища льет. Один плотник на машину залез, наши за ним. Он цепью отмахивается, бьет по рукам — весь кузов искрошил. Тут Юрка прибежал. Без шапки, в свитере одном. Кричит: «Перестаньте, перестаньте», — а его боксеры все лезут. Он тогда как давай их сам… Как кого ударит — так падают. Дрались страшно. Председателю это не понравилось. Хорошо, что ты в городе был, там, поди, такого нет — у нас только.
10 апреля.
Андрей зашел и поставил авоську на стол. Достал из сетки три бутылки «Рислинга» и свертки в упаковке гастрономов.
— Откуда? — удивился Юрка.
— Из города. Зашел перед отъездом в магазин, смотрю, ну и… не устоял. Дома одному сидеть не хочется.
Я разворачивала колбасу и сыр. Студила ладонь целлофановая обертка «любительской». Я была рада сегодняшнему вечеру. Появилась студенческая праздничность, когда нет ни к чему претензий и просто радуешься случаю, что собрались вместе.
— Я поджарю. Только вам затапливать.
— А можно не жарить, — по-ребячьи упрашивает Юрка. — Опять дрова…