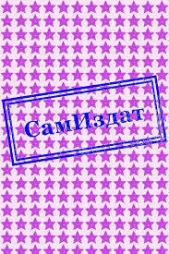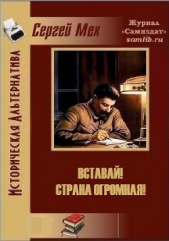За рекой, за речкой
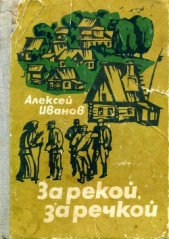
За рекой, за речкой читать книгу онлайн
Со страниц книги оренбуржца Алексея Иванова встают тревожные вопросы о том, как совместить нравственные ценности деревенской жизни с энергичным вмешательством в нее индустриального мира, как в нынешнее время бурных темпов созидания мудро и прозорливо взвесить истинную цену наших приобретений и утрат.
Проза Алексея Иванова богата точными наблюдениями природы, деревенского быта; молодой автор чутко вслушивается в живую речь народа, пишет простым, близким к разговорному языком.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А за окном плыл прозрачный полог березника.
— Вот оглобли-то! Вот так оглобли, — тихо радуется она. — Сок пойдет — ошкури да брось на солнопек. Осенью забирай — звон, а не оглобли.
— Ишь, бабка! — свешивается со второй полки молодой заспанный парень с колтуном на голове. — Наверно, и дровни вязать знает как…
— А чего ж не знать? Знаю. Дедко был жив — вязывал.
— Дровни вязывал да бабку поколачивал…
— Всяко бывало, — опять легка на ответ старушка. — Полоз в станке лопнет — обходи за версту, быть виноватой. У вас, у мужиков, кто ближе, тот и обвиновачен.
— Во дает бабка, во дает, — смеется парень, спрыгивая с полки. — Небось, пускай бы бил, да только чтоб живой был?
Старушка, глянув на парня и недовольно пожевав губами, отвернулась к окну.
За поредевшим березником неслось, не разбирая дороги, красное солнце, подпрыгивало над низинами, кололось об острозубую пилу дальнего ельника, торопилось, видно, старалось не отстать от поезда. Здесь оно мчалось, над моей деревней вываливалось из-за розового бугра, где-то выплывало из дымов — одно на всех и для каждого отдельно.
— Жисть-то, добрый человек, не одни потычины, — сказала старушка.
Парень тоже уставился в окно.
— Шпарит-то как! Во все лопатки. А ведь успеет, подлец!.. — кричит он.
— Что — успеет?
— Да в Подберезье в вагон вскочить. А мы его хвать, безбилетника…
Парень хохочет, да и старушка маленько подребезжала.
Потом бабушка Иринья, Игорек и я пьем утренний жиденький чаек. Одинаково дуем на стаканы, одинаково щуримся от взлетевшего в небеса солнца. У нас одна и, кажется, старая компания, хотя познакомились-то мы с полчаса назад.
Мы говорим о пустяках, нарочно о пустяках, а думаем-то совсем о другом и все об одном и том же. Конечно, по-разному думаем, потому что мы сами разные во всем.
Игорьку проще забыть Николая с Таней. У него возраст да и характер такой — глаза повернуты только к солнцу, и тень не спереди, а за спиной. Не знаю, как думает бабушка Иринья, могу только гадать. Но, в случае чего, у меня найдутся для нее утешительные слова. У нее, в жизни своей, не было Таниного горя и теперь уж, слава богу, не будет. Я же, как примерил на себя Николаеву судьбу, так похолодел — каково будет Лизе моей!..
Коряга
— Степа! Дай отгул — поросенка заколоть, — говорю недавно нашему новому бригадиру Степану Коряге. Вообще-то фамилия у него Кондратьев. Коряга — кличка. Но фамилия в ходу только в ведомости на зарплату, а так все Коряга да Коряга. И что интересно: никто, даже те, у кого язык без костей, первым его не обзывал. Сам себя Степа наградил.
А чтоб понятно всем это было, есть нуждишка начать издали, потому что, как говорится, издали и так и сяк, а вблизи — ни то ни се.
Не помню с точностью когда, помню только, что молодыми были мы еще, своим домом начинали жить, вот тогда-то и задурил Степка. Не буду, говорит, в вашем драном колхозе за палочки горб гнуть, хватит, ищите дураков.
Тогда строго было, трудно очень из колхоза уйти, до суда в иных случаях дело доходило. Однако строго не строго, а валом народ из деревни валил. Если б да кабы — ни одна б деревня не погибла. Ну, каким-то макаром и Степка устроил себе Юрьев день. Да и понятно было: детишки у него пошли один за другим, как после дождичка августовские грибы, с той лишь разницей, что грибы на сковородку да в рот, а детву кормить, одевать надо. Попробуй прокорми, если еще с постройки избы в долгах, как в шелках, а на трудодень, помню, в тот год вышло по фунту зерна. Ломил-ломил эту чертову работу, расчет подошел — отвалил тебе колхоз за годовые труды четыре мешка ржи да котомку льносемени. Хочешь — на базар излишки неси, хочешь — хлебы пеки, растягивай до новины. А тем не подспоришь, что пожиже квашню растворишь.
Куда деваться бедному Степану?
Нанялся он в Боровом, нашем райцентре, в депо, — чистить паровозные котлы.
Но из деревни не уехал. Как да куда с таким выводком? В общежитие? На столовские харчи? А тут все-таки и крыша над головой, и не какая-нибудь, а собственными руками состряпанная, и коровенка, и огородишко.
Так и остался на долгие годы Степан раскорякой: одна нога в деревне, другая — за сорок верст, вроде как в городе.
Я всегда, в особенности когда помоложе был, необтертый еще вокзалами, диву давался: как это Степан выучился каждый день такой длинный путь покрывать. Родился он, что ли, с этой выучкой?
Нам, деревенским, пуще всего в прежнее время, чтобы выбраться в Боровое, беспременно надо было с недельку-другую попереживать, а кому и пострадать душой до извода, чтоб решиться на такое важное путешествие да подготовиться к нему загодя. Для многих из нас оно было заботней, чем для какого-нибудь нынешнего дипломата перелететь океан. А и надо-то в Боровом гвоздья купить иль зуб выдернуть.
Разболелся, помню, у моей соседки, бабки Сергушихи, последний зуб. Все вывалились, и не заметила как, а этот, как дьявол наказал, болит — терпенья нет. Всей деревней уговаривали, поезжай да поезжай, бабка, в Боровскую поликлинику — враз спасут. Она — ни в какую.
А боль донимает. Что только она ни делала: и ниткой норовила выдернуть, и на святую воду нашептывала, и куриный помет клала, — все без пользы.
— Поезжай, бабка! — твердит деревня.
— Рожать таку даль не езживала, не то что…
Стала все-таки собираться. Напекла картовных колобушек, баню истопила, вымылась, во все чистое оделась, как перед смертью, деньги в носовик завязала. И угомонилась до сумерек — вставать завтра чуть свет.
— Да что ж ты не уехала-то? — спрашиваю утром.
— Проспала, кормилец.
— Во сколько ж ты встала?
— А вторые петухи уж пропели. В два часа ночи, значит.
— Так успела бы. Поезд-то в полседьмого, а до станции ходу — час-полтора.
— Да вот опоздала б…
Села она завтракать да с колобушкой вместе и зуб свой проглотила.
Зуб не работа, не каждый день болит. Каково же Степке-то было привыкать! Вставал он по деревенской нашей ответственности тоже загодя, в четыре. В шестом он уже на вокзале — самый первый пассажир. А зимы тогда были трескучие да вьюжные. Иной раз так заметет, что дороги днем с огнем не разглядишь, не то что ночью. Трактор со снегоочистителем от деревни до станции пускали по Степановым следам. Ввалится в вокзал, стряхнет с себя ледяную коросту да к печке — портянки сушить.
Смикитила вокзальная уборщица что к чему, говорит ему как-то:
— Степа! Ты бы сам и затоплял. Чего мне из-за тебя такую рань вставать? Все равно ведь сидишь, раньше поезда не уедешь.
— Ладно, тетка Маша.
— Степка! Дровец-то сам бы носил. Сарайчик ведь рядом.
— Ладно, тетка Маша. Только бересты на растопку припаси.
— Да где ж ее взять-то? Тут станция, лесу нету.
Делать нечего, ставит Степан в сумку молоко на обед, рядом цевку бересты сует.
Печку протопил, обсушился — в поезд сел, в восемь котлы чистить.
Отбухал смену, подождал поезда, в поезде — час, от станции до деревни — час, в семь дома. Отмылся от сажи, посумерничал да спать завалился — завтра вставать рано.
Мужики в деревне пошучивают.
— Вера! — теребят жену Степанову. — Успевает хоть Степка шевелить-то тебя?
Вера показывает на выводок.
— Так это ранние, колхозные еще.
— А все одно — наши, не соседовы.
За Степана брались, но с него тоже взятки гладки.
— Коряги вы все, — говорит. — Понятия о культурной жизни в вас нету.
— Как так — нету?
— Роетесь в навозе, как жуки, неба не видите.
И похвалялся:
— Я вот восемь часиков отработал — гудок. Выходные — мои, никто их у меня не возьмет. Жалованье твердое, не раз в год, а два раза в месяц, восьмого и двадцать второго числа. Производ-ство-о! — объяснял Степан и подымал к небу закопченный палец.
Тут мужики призадумывались: производство и есть производство, не то что колхоз. А Степан точку ставит:
— Не понимаете вы своей выгоды. Коряги.