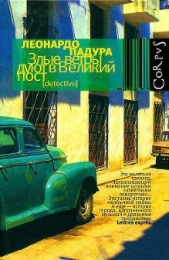Далекие ветры
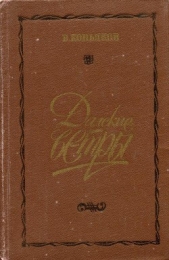
Далекие ветры читать книгу онлайн
Вошедшие в эту книгу новосибирского писателя В. Коньякова три повести («Снегири горят на снегу», «Далекие ветры» и «Димка и Журавлев») объединены темой современной деревни и внутренним родством главных героев, людей творческих, нравственные искания которых изображены автором художественно достоверно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В кладовой полутемно, пахнет медом и гвоздями.
Для мужчин мой приход становится темой. С неловкой усмешечкой они зубоскалят:
— Вы, Екатерина Михайловна, здесь уже восьмой раз. Мы сосчитали. Как пройдете, так следы. Посмотрите — луночки. — Я увидела отпечатки каблуков на полу. — Вот на собрании поставим: ремонт кладовой за ваш счет. Пусть Юра раскошелится.
Тетка Надежа привезла хлеб. Булки большие. Кладовщица разрезает одну пополам, она сдавливается вся, и огромнейший нож нехотя пробивает корку. Булки поднялись на поду, и в местах разрыва они горячи и цепки. Я с трудом запихиваю половинку в сетку. Когда иду к выходу, действительно слышу, как хрустят волокна досок под моими шпильками. Мне становится смешно.
Мне легко со здешними людьми. Если бы я была у дел, а не только носила из кладовой хлеб в авоське! Но я уже знаю, что в нашей деревне учителя не нужны. А эти туфли надо давно бросить, никак не могу доносить. Куплю в раймаге босоножки. Но ужас, как на здешних дорогах ноги пылятся.
В нашей деревне учителя не нужны… Об этом я узнала вчера в районе.
Заврайоно — женщина беленькая и круглая, как торт. В теплой шерстяной кофте с отделкой — толстые жгуты спиралью по груди. Она придирчиво рассматривала меня и недоумевала:
— Странная вы… Что же, всю жизнь теперь за мужем? А ваш университет? У вас такие возможности, столько вариантов. Муж перейдет в райцентр в управление.
— Муж хочет быть агрономом, а я — жить с ним рядом и учить ребят.
— Вы же филолог. А в начальной… Такой оклад… Разве это безразлично?
— Неужели в современной деревне мне с университетским образованием не найдется места?
— Но… ведь…
— Я считала свой приезд в деревню вполне естественным. Мне двадцать два года. Только и начинать. И… Ведь газеты и журналы только о том и говорят, что не хватает интеллигенции в деревне.
— Не пойму… Что вы делать там будете? А у нас в райцентре в железнодорожной школе не хватает словесника, и в районной десятилетке ведет литературу учительница из педучилища. А в Речкуновке муж и жена учительствуют восемь лет, выпускают хорошие классы. Не можем же мы их раньше времени отправить на пенсию.
Я поднялась. Заврайоно участливо остановила меня:
— Екатерина Михайловна! Вы только не исчезайте совсем. Подождите. Мы вам что-нибудь предложим.
Горько. И все просто. Вот так, жизнь. Это твоя первая консультация. С университетским образованием — в начальную школу. Это же надо приветствовать! Особенно в Сибири. Приехала. Наивная же я. Дура.
12 ноября.
Я позорно трушу. На ночь жарко натопила печь — утром все в избе выстыло. Мороз лезет в дверь и нарастает снежным грибом на щелях. Я не закрыла трубу русской печки, и от нее, как из ледяной пещеры, холод осторожно и глубоко пробрал до костей.
Печь придется протапливать. Выпал снег, и березовый лес стал сырым, нахмуренным. Черными пятнами на нем сорочьи гнезда.
Принесла охапку дров, бросила на жестянку перед печкой. Эту печку я люблю. На плите у нее пять кругов. В центре крышечка, потом кружки побольше, побольше, побольше, и последним можно крутить «хула-хуп».
С полена зубами надрала бересты, растопила печку, В огне береста свернулась в тугие трубочки. Я не включила свет. Печка гудит — «прям выходит из себя», как здесь говорят. Но гудит ласково. Юрки нет, он в клубе. А мне можно подумать. Сейчас надену тулуп.
Меня, пожалуй, сложно понять другим потому, что я еще сама не понимаю себя. Зачем мне нужен был университет, да еще филологический факультет? Я знаю преподавателей литературы, выжатых вечными домашними заботами. Издерганные детьми, они еле успевают погладить себе блузку, затюканы программой и чумеют над многоэтажными стопами тетрадей с сочинениями, а в них из года в год (о, я знаю эти конспекты и планы уроков в общих тетрадях) один и тот же «положительный образ». В развернутые планы сочинений никакими усилиями не втиснется ни одна живая искорка своей заметы. И не придумает ничего нового учитель, потому что и думать ему некогда, и думать отвык, и не улавливает он, чем живет современная литература, что ищет за пределами установившихся условностей, оттого что сам ничего давно не читал — некогда.
А я… Я вижу перед собой ребят, их глаза. Они смотрят на меня и ждут. Ждут первого моего слова. Что я, кто я? Что я им сейчас дам?
Первое мое слово — это… Я подношу палец к губам и говорю: «Т-с-с… Тихо… Одевайтесь. Мы пойдем в лес. Я буду учить вас не знать, а слышать Пришвина. Зимой он говорит тихо — пристальный мудрый философ. И вместе с ним вы услышите себя. А потом… когда-нибудь сами захотите мне рассказать о том, чего я не знаю и не знает никто».
Но для этого я должна уехать далеко, где некому меня будет одергивать, где не нужно растрачиваться на докторальную всезнающую опеку…
Приблизительно так я придумала свой первый урок. Для себя. Придумала с детства. Девица, воспитанная городом, я никуда не выезжала, но до меня доходили обрывки какой-то большой дерзкой жизни, и я не равнодушна к ней. Я не помню этих источников. Может быть, это было кино, может, книги, может, музыка.
Я не могу довольствоваться потребностями подруг моего студенческого круга, потому что знаю: есть люди, которые мыслят иначе, живут лучше. Они другой категории чувств.
И во мне живет потребность понять их, этих людей. Что им надо? Зачем? Разобраться в их жизни и активно взять ее, потому что мне это надо. Лично для себя. Я тщеславна и хочу взять на себя много.
Меня пугал примитивизм заведенных будней. А здесь для меня важен каждый мой день. Как я проживу его, как увижу себя в нем — я зафиксирую.
Тулуп греет. Дыхнешь в воротник — он отдаст тепло щекам, и оно держится у лица.
Я заметила одну особенность. Когда пишу в тулупе — слова мои становятся мужественнее. Об этом я узнала случайно, когда перечитывала написанное. Ошибаюсь я или нет в этом ощущении? Кто проверит? Вообще для чего я пишу? Дневники мне не нужны. Но мне кажется, что так я сохраняю способность думать и не теряю возможности следить за своими днями.
И еще… Я никому в этом не признавалась, даже себе. Это далеко и неясно во мне. Кажется… я умею видеть слово. Будто беру и прикасаюсь к его новизне, его непонятной зрелищной сути. Вот оно, легкое, обыденное такое, вдруг набухает содержанием, как ветка в мороси, и, влажное, ложится на бумагу и приобретает вяжущий вкус. Я сама не знаю, отчего радуюсь этому.
Может быть, к ним, к этим словам, я и приехала в эту глухую даль, где замело все снегом и я нахожу следы зайцев за стеной на огородах.
21 ноября.
Юрка сел на стул и начал стягивать сапоги. По всему полу рассыпалась пшеница.
— Холодная, как свинец. Ноги замерзли. Семена сейчас подрабатываем. Залез на ворох — начерпал. Разуваться на морозе боялся.
Юрка ходит босиком по полу. И там, где ступает, пшеница исчезает, как омакивается.
— Ты гусь. И у тебя не лапы, а губка.
Юрка не отвечает, надевает вязаную шапку и толстый шерстяной свитер. Садится, примеряет ботинки с коньками. На меня ни разу даже не глянет. Спина у него прямая и широкая, а из-под свитера выступают лопатки.
Я подхожу к нему сзади и устраиваюсь локтями между лопатками, давлю изо всей силы. Юрка — железобетон. Не оставляет своих привычек нигде, никакой поблажки себе. Характер. Хвалю. И я поглаживаю ладошкой его волосы на лбу.
— Гончаренко и Гришин для тебя скоро будут только подметать дорожки.
— Ты бы одевалась быстрей. Озеро посмотришь. Я больше тебе не буду напоминать.
Юрка говорит, а под локтями у меня спина его гудит. День сегодня потеплел. Воздух мягкий, притих неподвижно у мокрых березок.
Мы с Юркой идем за деревню к озеру.
— Я никогда себя так не чувствовал, как сейчас, как здесь. Понимаешь… В городе придешь после занятий на стадион — то дорожку уже избили, то залита она с наплывами. К вечеру сгустится над катком дым с сажей какой-то. Побегаешь два часа, а потом сплевываешь на снег углем. Тренер еще пытался из меня что-то выжать… А у меня легких хватало только на полкруга. А здесь… ноги устают, а легкие не знают предела. Даже самому становится жутко. Такой идеальной дорожки не знает ни один город. Если мне ничто не помещает…