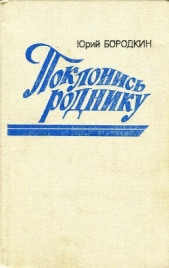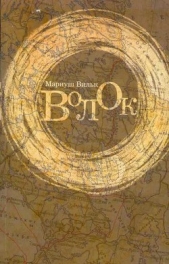Кологривский волок

Кологривский волок читать книгу онлайн
Роман повествует о жизни деревни в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, о долге современников перед старшим поколением, о воспитании у деревенской молодежи лучших традиций отцов — любви к Родине, к отчей земле, к делу, которому отдаешь всю жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лопатин порылся в железном хламе, достал ржавую полосу.
— Вот из этой можно сделать подрезы. А что, Сергей, не попробовать ли нам самим? — И подмигнул, словно замышлял какое-то озорство. Желтые, прокуренные усы смешно встопорщились под круглым носом. Передал спички. — Разводи огонь!
Серега быстро наломал лучины, зажег с первой спички. Огонь весело заплясал в жаровне. Ребята примолкли у порога, смотрели разинув рты, точно он собирался показать фокус, подсыпая помаленьку углей. И ожила кузница, завздыхали мехи, загудело в горне синее пламя. Пыль искорками зашевелилась в солнечных лучах, проткнувших старую тесовую крышу. Лопатин уже обстукивал ржавую полосу, прикидывал, как выкроить из нее подрезы.
Когда поковка накалилась, он осторожно вынес ее в щипцах на наковальню.
— Бей, куда покажу! С потягом бей, немного на себя кувалду бери.
Только ударил первый раз ручником, щипцы вертухнулись в его левой руке, и железяка упала на землю. На ребятишек сгоряча цыкнул, дескать, нечего глазеть, только свет застите.
Но дальше дело пошло. И Серега приноровился бить кувалдой точно, куда показывал ручник, и Лопатин уже ловчее выхватывал поковку из огня и уверенней держал ее. «Динь-тинь-тинь…» — ударял он по мягкой, источающей жар полосе и сбрасывал молоток на звонкую наковальню. «Бом», — глухо опускалась кувалда, сыпались из-под нее белые искры. «Динь-тинь-тинь… бом», — вызванивала кузница знакомую шумилинцам музыку весны. Так же, как ледоход на Песоме, привыкли все ждать этот веселый перезвон молотков, обещающий близкую пахоту и горячее лето. И наверно, удивлялись люди: дед Яков в больнице, а кузница заиграла?
Раскраснелись оба, скинули фуфайки. Из-под кепки у Лопатина свесились мокрые косицы. Председатель казался сейчас совсем молодым парнем: с такой увлеченностью и азартом осваивал он новое для себя ремесло. В зеленоватых глазах его плясали живые огоньки — отсвет от жаровни. Один подрез был почти готов, осталось обточить его на наждаке и закалить.
Когда Лопатин сунул его в чан, вода зарокотала, забулькала, извергая щекотливо-кислый пар.
— А получается, черт побери! Теперь не грех и покурить, — с каким-то ребячьим торжеством сказал он и достал из кармана фуфайки скрученный в трубочку тощий кисет. Свернули по цигарке, прикурили от угля и сели на порог, на солнышко.
Новоселье на бугре было в разгаре: девчонки играли в скакалки, ребятишки пробовали бегать босиком береговой тропинкой, шалели, как телята во время первого сгона. Валенки стояли в рядок на срубе ошиновочного станка, будто бы на припечке сушились.
— Еще одну зиму пережили. Теперь и до победы недолго: этим летом, поди-ка, прикончат немца, — предположил Лопатин. — Полегче станет. Фронтовики вернутся, а то одни бабы да старики в деревне, окромя нас с тобой. Измотались люди.
Серега, щурясь, смотрел из-под козырька отцовской восьмиклинки на фиолетовый ольховник, на теплое курево над бором и светлую кромку разлива, и представлялась ему другая, исковерканная и сожженная взрывами, земля. Где-то по этой земле шагает вместе со всеми бойцами отец, сержант саперного взвода Андрей Карпухин. Немцы наставили мин на каждом шагу, и каждый шаг отца может быть последним. У него самое ответственное дело: ищет мины, оберегает землю от увечий.
— В этой кепке ты здорово похож на батьку, — неожиданно сказал Лопатин. — Почудили мы с ним в парнях… А то уж перед самой войной шли с гостьбы из Клинова, уселись на опушке и давай горланить песни. Ну и подпалили нечаянно сивун-траву. А сухо, трава как порох. Принялись пиджаками сбивать огонь, видал, что получилось.
Лопатин отвернул полы, показывая заплаты на подкладке. Добродушные морщинки лучиками сбегались к краешкам его глаз, цигарку сосал с наслаждением, так, что табак потрескивал. Должно быть, пришло на память доброе довоенное время, тот день, когда гуляли они с отцом на клиновском празднике.
— Что пишет, где теперь?
— На Украине.
— Теплынь, наверно, там. Мы тоже скоро пахать начнем, только бы весна не подкачала.
И оба посмотрели на остатки снега, прижавшегося к обочинам, и на поле, сверкавшее слюдяными чешуйками лужиц, словно хотели предугадать, как поведет себя весна дальше. Над самой кузницей завел свою серебряную песню жаворонок. Сереге показалось, что председатель не слышит ее.
— Жаворонок, Степан Никанорович! — показал он на крохотную трепетную точку в голубом небе.
— До какой благодати дожили!
Лопатин стащил сапог, чтобы перемотать портянку, Серега впервые увидел его беспалую, будто обрубленную, ногу. С финнами воевал, раненный, долго лежал в снегу и отморозил пальцы.
— Больно?
— Нет. Портянки часто сбиваются. — Лопатин притопнул разбухшими от сырости яловиками и шагнул в кузницу.
Снова засопели мехи, полетело к деревне весенней побудкой «динь-тинь-тинь… бом». Снова сгрудились у дверей ребятишки, ближе всех к порогу Ленька с Веркой. Сестренка с удивлением и робостью смотрела на кузнечную работу, моргала при каждом ударе молота. Серега по-отцовски любил Верку. Растет она худенькой, слабой; кожа на лице как бы просвечивает, губы без кровиночки, в глазах — жидкая голубизна. А время такое, что хлеба досыта не поешь.
Под конец работы приплелся Осип Репей.
— Бог в помочь! Старателям! — громко, точно желая перекричать кого-то, завел он.
С хитрой усмешечкой скривил голову набок, дескать, посмотрим, что тут за мастеровой народ отыскался, потом протиснулся к порогу и сел, стащил с головы облезлую ушанку, прилепил ее на колени.
— Трудимся, значит? Хорошее дело. А я думаю, дай гляну, кто тюкает в кузнице? Косарь, что ли, делаете?
— Подрезы к плугам, Осип Фомич. Давай лошадок готовь.
— Кабы овсеца…
— Только на самую пахоту дадим немного, — пообещал председатель.
— Надо бы, надо, — подхватил Осип, извлекая из кармана деревянную табакерку, похожую на солонку. Напихал в нос табаку, забористо чихнул и продолжал, как бы разговаривая с самим собой:
— Без кузницы эту пору никак нельзя. Може, Яков-то придет скоро: весну лежать в больнице истомно. Редкий мастер, любое дело от рук не отобьется. Мне вот бог талану не дал, только и знаю обращение с лошадьми да лапти плету. А Яков, в парнях еще гуляли, балалайку сам сделал, истинная честь. Закинет ногу на ногу, тряхнет чубом и поведет, как по нотам. Особенно «Светит месяц» получался, послушать, так все равно что по радиву у Василия Коршунова. Вот ведь антересная штуковина: надел наушники, и Москву слышно! — почесал в кудельно-серых, скомканных волосах. — Василий говорит, спать лягу с наушниками, слушаю, слушаю и усну. М-да… От Егора-то ему никаких вестей, точно в воду канул. Василий как бирюк стал, все молчит. А Настёха ждет, только напрасно, помяните мое слово. Считай, всю войну — ни слуху ни духу. Пропал парень.
Председатель с довольной улыбкой рассматривал готовые подрезы, еще не остывшие, отливающие каленой синевой, перекидывал их с руки на руку, словно это были дорогие слитки.
— Практически, сделали подрезы! Спасибо, Сергей.
Накинув на плечи фуфайку и собираясь уходить, Серега побеспокоил конюха:
— Позволь, дядя Осип, дверь закрыть.
— Ты смотри, и кузницей и стариками командовает! Ишь заторопился! — Осип неохотно поднялся пригрева, попридержал Серегу за рукав. — Нет, постой, я тебе проясню.
— Чего прояснять-то?
— А то, чтобы почитал стариков. Кто тебя научил лошадь запрягать? Батьку твоего кто наставлял, когда в Нижний ездили на строительство? Бабка Аграфена просила: ты уж присмотри, Осип Фомич, за Андрюхой, неопытный он в городе человек. И присмотрел. Благодарил после. А то, чего доброго, не вернулся бы, был бы ты безбатешный. Запутался он там, как муха в тенетах. Только у меня, брат, не забалуешься. Так и так, говорю, выкинь из башки всякую дурь. И что? Приехал батька обратно в шевиотовом костюме, в хромовых сапогах, часы на руке. А с чем уезжал, спрашивается? С одним топором! Вот и мотай на ус.
— Ладно, счастливо оставаться!