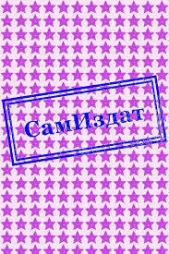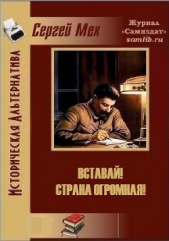За рекой, за речкой
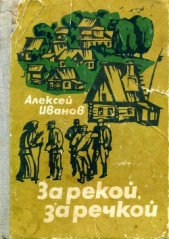
За рекой, за речкой читать книгу онлайн
Со страниц книги оренбуржца Алексея Иванова встают тревожные вопросы о том, как совместить нравственные ценности деревенской жизни с энергичным вмешательством в нее индустриального мира, как в нынешнее время бурных темпов созидания мудро и прозорливо взвесить истинную цену наших приобретений и утрат.
Проза Алексея Иванова богата точными наблюдениями природы, деревенского быта; молодой автор чутко вслушивается в живую речь народа, пишет простым, близким к разговорному языком.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кузьмич сказал:
— Парит-то седни как, едят тя мухи. Вёдро кончится. Сметаем, тогда уж и портки высушим.
Маруську он послал копнить на дальней делянке, Генку — подгребать за сношенными копешками. Когда стог вырос выше кепки, Кузьмич сказал:
— Генька, полезай на стог.
Генка стаивал на стогу не раз и знал, что там можно отдохнуть. С Кузьмичом — не с Маруськой, Кузьмич не надрывал пупок, не выхватывал вилами громадных охапок. Он часто, мелко нанизывал и нанизывал на вилы пучки и потом аккуратной, плотной охапкой подымал на стог, клал на загодя облюбованное место. Такими охапками он проходил весь стог по краям (Генке оставалось только подправлять граблями да уминать), потом негромко командовал:
— Забивай середку.
Генка принимал охапки, раскладывал, обвивал их вокруг жерди-остожины, затем снова проходил круг по краям.
Когда начали сужать брюхо стога, вершить, Генка потной спиной почувствовал свежий верховой ветерок.
Кузьмич еще наддал.
Ветерок утих, снова стало душно, но вдруг потянул так, что громко залепетала высокая осина в ближайшем леске. Генка глянул на нее. Листья горели ярко-зеленым огнем — за осиной подымалась темная синева.
С беременем сена на плече, как муравей, появилась Маруська. Сбросив его, зыркнула на стог и пролаяла:
— До коих пор ты, батя, будешь пригревать этого..?
Генку как варом обдало. Маруська материлась редко, но если взлает, то уж и укусит. Генка выпустил грабли из рук. Они юркнули со стога, шмякнулись оземь колодкой. Колодка отскочила от граблевища. Кузьмич будто ничего не видел и не слышал, только ровнехонько, вполголоса, сказал:
— Не бери в голову, Генька. Не бери. Шлея под хвост попала.
Но Маруська тоже услышала, и ее прорвало:
— Жилься тут… а он будет на стогу прохлаждаться… Перевидала я на своем веку таких работничков… Повесили хомут на шею… Я те устрою сладкую жисть, я те устрою…
Генка тихо сполз со стога и, не разбирая дороги, побрел по делянке.
Чтобы выйти к дороге через болотину, надо миновать пожни, где убирала сено артель. Генка боялся попасться на глаза кому-либо из колхозников. Стыд-то какой — прогнали с покоса. Он считал себя мужчиной, хозяином в доме. О доме же в его деревне судили по хозяину. К болотине он пробирался не тропинкой, утоптанной посередине пожни а вдоль опушки. И если на глаза попадались бабьи сарафаны и кофты, то он готов был обернуться мышью — лишь бы не увидели его…
На болотине — шум ельника, мрак, запах мха и гнили. Ноги приклеивались к иссиня-черной, влажной даже в такой зной земле, мятой-перемятой сотнями ног. Глаза его натолкнулись на хорошо пропечатанный след, в елочку, литого сапога. Каблук был откушен другим отпечатком — кирзача с копеечками-вмятинами на подошве. Генку словно дернуло от догадки. Это утром он, идя за Маруськой, наступил на ее след, но не смял, только коснулся.
Он остервенело затоптался на этой ненавистной елочке и плясал до тех пор, пока не смешал с грязью все то, что оставалось в этом лесу от Маруськи. Потом вдруг догадался, что утром по этой дороге прошло после них еще несколько десятков пар ног, обутых и в литые и в кирзовые сапоги, и что, значит, он не те следы топтал. И он заплакал.
Лес ярко вспыхнул, гулко лопнуло небо и пролилось. По лицу потекли ручейки, он их слизывал, они были солеными, и он не разбирал, что слизывал: слезы или дождь, потому что и дождь был соленым от пота, много раз увлажнявшего лицо и высыхавшего там, на покосе. Он не стал прятаться под елкой. Не потому, что боялся, — как бы в елку не ударила молния и не убила его, а потому, что ему, плачущему, с расслабленными, наконец, нервами, было все равно: течет или не течет за воротник, между лопатками, до поясницы вода, прилипают или не прилипают к коленкам брюки, чавкает или не чавкает в кирзачах.
Генка не помнил, как по скользкой грязи прошел болотину, как вылез на первый боровой бугор. Здесь он наткнулся на оставленный дядей Колей до вечера трактор с тележкой и сел под эту тележку. Земля была укрыта толстым слоем бурых иголок. Моют его дожди, засыпают снега, а он по-прежнему держится добротной попоной и только снизу прикипает к земле и так же незаметно становится землей. Генка покусывает эти рыжие иголки. Они давно умерли, но пахнет смолой, во рту остается живой горьковатый привкус. Генка перебирает новые — замечает, что не может найти иголку саму по себе, иголку-сироту.
Все они, даже мертвые, скреплены парами. Иголок-троек тоже нет… Да, да… Кузьмич и Маруська… Он, Генка, третий… Конечно, Маруська давно задумала избавиться от него, только ждала подходящей минуты спустить собак. Маруська упряма, ее не объедешь на кривой. Зря он перед ней — мелким бисером, когда хватался за задние концы носилок. Это ей в руки лишний козырь: не понятно ей, что ли, что Генка вроде бы винится перед нею. А коли так, то ей-то и бог велел считать его виноватым. Конечно, ее бесило, что вот, дескать, сопляк, а работает, чтобы брат в люди выходил и чтобы потом ему, Генке, он помогал в люди выходить, а я, дескать, Маруська, ломи эту чертову работу и не знай просвета.
Дождь уже не выбивает барабанной дроби по железному дну кузова, а глухо шумит и булькает — в тележке, наверно, может теперь нырять воробей. И под тележкой хвоя пропитывается сыростью. Генка начинает дрожать, рубаха и штаны, приклеиваясь к телу, обжигают холодом. Он меняет место и нечаянно прислоняется к резиновому скату.
— Во, дурак-то, раньше не догадался.
Скат теплый, как лежанка печи, на нем можно согреться и высушить рубаху. Жалко, что штаны останутся мокрыми — ни зад, ни коленки к колесу не пристроишь.
Маленькая радость заслоняет большую беду. Генка теперь уже просто так, без горького повода, думает о Кузьмиче.
Кузьмич не отказывал в помощи. Но… Трудно сказать о нем, какой он: хороший или плохой… Скорей всего — н и к а к о й. Да вот тебе история с фуганком…
Как-то Генка задумал сделать себе фуганок. Если бы он представлял, что эта работа не раз, два — и готово, то и старенький рубанок был бы по-прежнему мил. Пошел спросить совета у Кузьмича.
— Не, Генька, не сгоношить те фуганка, — сказал Кузьмич и скрылся в чулане. Вернулся — в руках готовая колодка для фуганка.
— На вот, бери.
— Сейчас посмотрю, как дырка продолблена и — раз плюнуть, — сказал Генка.
— Ты не смотри, а бери.
— Как — бери?
— Так и бери.
— Прямо насовсем?
— Насовсем.
Ясно, что было с Генкой. Он ласкал этот волшебный четырехгранник. Колодка была длинной, с отполированной до блеска подошвой, с фигурной, сразу прикипевшей к ладони ручкой. Через десяток минут, вставив стамеску, Генка пробовал инструмент. Тот вольно ходил по сосновой клепке и, гоня тончайшую, широкую стружку, словно пел: Ку-узь-мич, Кузь-ми-ич.
— Батькин струмент разоряешь! — всполошилась Филиппиха, увидав фуганок в руках сына. — Я второй год думаю, кто к нему ноги приделал… Ты, значит, стащил?
— Ты что, мам? Кузьмич отдал. Насовсем!
— Кузьмич?! Вон оно что, — Филиппиха села на чурбак. — Такие ручки Филипп только умел точить. Вишь, рисунок-то какой…
— Брось ты, мам. Стал бы Кузьмич показывать, если б…
Мать усмехнулась.
— Стар Кузьмич стал. Память-то подводит. Али нахапал столько, что не упомнит, у кого что… Надо ведь докатиться — дарить тому, у кого украл.
Дело прошлое. Генка плохо поверил матери, — может, обмишурилась.
Теперь-то он наверняка знает, что мать не обмишурилась. В памяти, будто берестяные поплавки невода, один за другим, выстраиваясь рядком, всплывали «подарки» Кузьмича.
Бабьим летом, сразу же после Успенья или Александрова дня, деревенские высыпают на огороды копать картошку. Колхоз выделяет лошадь с плугом поочередно наезжать борозды. Проехав у себя, Кузьмич заворачивает на соседний, Генкин, огород и разваливает две-три борозды. Генка знает, что плуг острием надо пускать не по середке борозды, а чуть левее, чтобы не попортить гнезда. Так делает Кузьмич на своем огороде. На Генкином будто забывает про эту немудреную науку. Лемех выворачивает резаную, иссиня-белую на черной земле картошку. Мать — «спасибо-спасибо», а в другой раз откажется от его помощи.