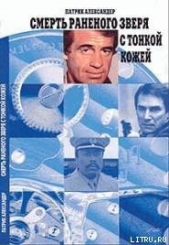Заброшенный полигон

Заброшенный полигон читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— У нас пять актов! — сказал Иван Емельянович.— А что толку?
— То ваши, а теперь будет наш!
Уже в автобусе Мурашов составил акт под копирку, дал расписаться членам комиссии и представителям колхоза. Балтенков расписался с желчью, чуть не продрав насквозь бумагу. Плюскарев, напуганный перепалкой, подписался тихо, скромно. Иван Емельянович расписался, даже не прочитав толком, что там написано. Маникина же, напротив, въедливо и дотошно изучила документ и только после этого поставила свою подпись. Балабин, рыхловатый, молчаливый человек, работавший раньше механиком в колхозных мастерских, поставил свою закорючку не глядя.
— Ну и что дальше? — спросил Иван Емельянович.— В дело? Или под сукно?
— Товарищу Ташкину,— холодно, снова переходя на официальный тон, отрезал Мурашов.
— Ташкину так Ташкину,— обескураженно сказал Иван Емельянович.
— А собственно, почему Ташкину? — задиристо спросила Маникина.
— Потому,— сухо сказал Мурашов, аккуратно складывая в портфельчик тетрадки и экземпляры только что составленного акта.
— Да ладно ты,— урезонил^Иван Емельянович Маникину.— Вызовут и все объяснят. Ну выговор запишут, больше не дадут.
— А ты уже и лапки кверху? — возмутилась Маникина.— С какой стати! Пусть Шахоткину выговор дают, ему не привыкать. Или Ташкин сам себе в учетную карточку запишет — давно пора за такое руководство! Еще с обкома ездит эта, как ее, чернявенькая такая, важная, ну, вылетело из головы, заведующая сельхозотделом.
— Колтышева,— подсказал Иван Емельянович.
— Вот-вот, Колтышева! Вот ей — тоже строгача!
— А ей-то за что? — спросил Мурашов.
— А за старательность! Ей говорят: колхоз должен сдать десять тонн мяса,— она для подстраховки требует двенадцать. Ей говорят: надо отсеяться до двадцатого мая,— она давит, чтоб к пятнадцатому.
— Вас послушать, Маникина, так кругом все дураки, все перестраховщики, одни вы умные, хорошие,— сказал Мурашов язвительно.
— Да, мы одни и есть! А чем мы не хорошие? Труженики, можно сказать, самые низовые, ниже некуда. Сеем, пашем, а что получим за свой труд, не знаем. Скотину сдаем — вес, упитанность занижают, молоко сдаем — с жирностью мухлюют, зерно повезли — влажность, клейковину с потолка ставят, колхозу в убыток. Кругом вымогатели, теперь уже мяском да медком не отделаешься, денежки сверху положи, тогда примут как есть. А не дашь — до смерти заволокитят.
— Сами приучили,— сказал Мурашов.— По закону отвечают одинаково взяточники и взяткодатели. Это вам известно?
— Так они ж вымогают! У них совести нет!
— А вы имейте совесть не давать! Почему идете на поводу?
— Для дела! Иначе не сдашь.
— Цель оправдывает средства — вот ваш принцип. Безнравственный принцип! И лучше помалкивайте. Перестраивайтесь и помалкивайте. А мы будем и там наводить порядок. Порядок везде нужен, во всех звеньях.
Балтенков, сидевший у окна через проход, метнул на Маникину злорадный взгляд, перегнулся к Мурашову:
— Вот видите, Иннокентий Андреевич, все они такие, крикуны и крикуньи. Кричат, а копни их...
— Заткнись! — прицыкнула на него Маникина и снова повернулась к Мурашову: — Правды нигде не найдешь. Их, вымогателей, под крылом держат, оберегают. Как их сковырнешь?
— Ничего, сковырнем,— пообещал Мурашов.
Автобус подкатил к правлению. Иван Емельянович вопросительно посмотрел на Мурашова. Тот кивнул на выход. Все вышли, собрались у крыльца.
— Может, пообедаете,— неуверенно начал Иван Емельянович, но Мурашов энергично запротестовал:
— Нет, нет! Дома!
— Боже избавь,— поддакнул Балтенков, хотя по всему было видно, как он страдает.
— Ну что ж,— развел руками Иван Емельянович,— мы из чистого гостеприимства.
— Да, да, спасибо, но нам пора.
Мурашов степенно попрощался за руку с Иваном Емельяновичем, с Балабиным и с Маникиной. Потянулся прощаться и Балтенков, но Маникина демонстративно заложила руки за спину и отвернулась. Балтенков плюнул и пошел к «газику», на котором приехали сюда. Плюскарев потоптался, не зная, как быть, в последний момент все же сунул ручку Ивану Емельяновичу и Балабину и стариковской трусцой заспешил к машине. Мурашов тоже двинулся было к «газику», но вдруг остановился, взял Ивана Емельяновича под руку, отвел в сторону.
— Вот что хочу сказать, товарищ Александров,— начал он вполголоса, стараясь, чтобы никто их не услышал,— вы человек порядочный, знаю вас давно... Что хочу посоветовать.— Он покосился по сторонам и еще понизил голос: — Постарайтесь забрать у Ташкина ту справочку, которую передали ему. А яйца переоформите как сдачу с личных хозяйств. Я некоторое время придержу акт, не буду давать ему ход. Попробуете?
Иван Емельянович смотрел в серое изможденное лицо Мурашова, в его ястребиные холодные глаза, и что-то в нем натягивалось, натягивалось до стального пружинного звона, еще чуть-чуть — и, кажется, лопнет, взорвется, разлетится в пыль и прах. Мурашов отвернулся, пошел, приволакивая ногу, к машине. Следом за ним утянулись в «газик» и его помощники.
3
В тот же день, к вечеру, в Камышинку приехал товарищ Ташкин — в единственном числе, на райкомовской «Волге», сам за рулем. Предварительно предупрежденный по телефону, Иван Емельянович встретил его у крыльца правления, и они вдвоем укатили на птичник.
Ташкин был мрачен, задумчив, капризно выпячивал толстые губы, ходил, косолапо переваливаясь с боку на бок, руки в карманах кожаной куртки — пузо вперед. Рыжие волосы как-то небрежно свалены на левую сторону, отчего лицо его, и без того широкое, плоское, казалось перекошенным, как бы помятым. Пыльные глаза сердито щурились, избегали прямого взгляда. Но в голосе, когда изредка бросал незначительные фразы по ходу осмотра, урчали и перекатывались те же властные басовитые нотки. Что заставило его осматривать птичник, было для Ивана Емельяновича загадкой. Быть может, акт народных контролеров? Но тогда кто сообщил Мурашову о сдаче яиц? Иван Емельянович молча ходил следом за Ташкиным и терпеливо ждал, когда секретарь сам начнет разговор. По всему было видно, что Ташкин приехал не просто так...
Они вернулись в машину. Ташкин вынул пачку «Шипки», закурил и неторопливо повел такую речь:
— Не знаю, как ты, Иван Емельянович, а я считаю, что мы с тобой хорошо работали. Если и бывали сшибки, то не по злобе, по делу. А кто не работает, тот и не спорит. Ты мужик честный, без лукавства, без этого самого, тебя уважают и в колхозе, и у нас в районе, и в области! Да, в области ты на хорошем счету... У меня от тебя секретов нет и быть не может, потому как в одной упряжке. За все эти годы, наверное, не раз мог убедиться в моем к тебе добром отношении. Я не про орден — вообще. Бывало всякое, приходилось выполнять вышестоящие указания, не всегда они были, прямо скажем, мудрыми. Но дисциплина! Я — райком, они — обком! У нас — тактика, у них — стратегия! Если мы все снизу начнем учить верха, понимаешь, что получится?
Иван Емельянович, сразу смекнувший, что это только присказка, неопределенно пожал плечами, дескать, ему ли подыматься до таких высоких материй. Он так и сказал:
— Мне б твои заботы, Антон Степанович...
Ташкин криво усмехнулся, выкинул недокуренную сигарету.
— Твои заботы, конечно, поважнее. И это всерьез, без смеха. М-да, Иван Емельянович, милый ты мой Ваня... Я ведь к тебе приехал за советом, с просьбой, если пойдет у нас разговор... Прошлый раз, когда ты был у меня и я просил тебя об этом чертовом птичнике, мне, понимаешь, неловко было открываться до конца. Сидят в нас еще какие-то ложные понятия — субординация, гордыня и прочее. Но потом стыдно стало, что ж, думаю, темнить-то? Да еще с Александровым! Вот и прикатил...
Иван Емельянович сидел к нему вполоборота на соседнем сиденье. И были они так близко, что невольно то и дело взглядывали друг другу в глаза. И когда взгляды их сходились, Иван Емельянович чуть замирал от какого-то совсем незнакомого ему выражения глаз Ташкина. Он и не подозревал, что Ташкин — важный, настырный, волевой, привыкший завершать все разговоры и давать непререкаемым тоном ценные указания,— что этот Ташкин может глядеть такими усталыми, печальными и даже жалостливыми глазами. Таких глаз у Ташкина раньше не водилось, это что-то новое...