Три тополя
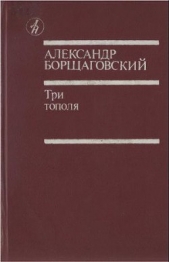
Три тополя читать книгу онлайн
«Три тополя» — книга известного прозаика Александра Михайловича Борщаговского рассказывает о сложных судьбах прекрасных и разных людей, рожденных в самом центре России — на земле Рязанской, чья жизнь так непосредственно связана с Окой. Река эта. неповторимая красота ее и прелесть, стала связующим стержнем жизни героев и центральным образом книги. Герои привлекают трогательностью и глубиной чувства, чистотой души и неординарностью поступков, нежностью к родной, любимой природе, к детям, ко всему живому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А зачем мне добрым быть! Я со слепнем и с комаром в одну пору в злость вхожу — при сенокосных днях. Комарью смерть идет без укрытия, и я впереди зиму вижу. Зима долгая, а мне в зиму и трудодня негде взять.
Долгое, невеселое молчание легло вокруг.
— Плотиной пойти, что ли? — заколебался майор.
Казалось, что Ефим уже не вернется, что сумерки окутают паром, и людей, и дремлющих в упряжи лошадей, а сено Полещука издалека будет казаться стогом, сложенным у самой воды.
— Семка! — крикнул Петр Егорович. — Чего молчишь? Тебя зачем поставили?
— Скажу, когда будет чего!
— Практикантов пустили на плотину?
— Не-а!
— Сюда идут?
— He-а! В луга.
— Опять будут копны на голодный живот мерять, — сказал с ехидцей седой аккуратный старичок.
— Не ходи, майор, — посоветовал Петр Егорович. — Григорий за Полинкой на лодке плывет, он и переправит.
На том берегу из-за причала вышла лодка, чуть сплыла вниз, мимо бревенчатой рамы и взяла курс на паром. Ее слабо сносило течением.
Любаша не навязывалась с ягодами, не упрашивала шофера, не улыбалась ему тревожной, отрешенной улыбкой. Она молчала, всматриваясь в реку, которая в какой-то миг посветлела, но с заходом солнца гасла на глазах, окрасилась тускловатой зеленью.
— Обиделись? — спросила она. — Я когда у машины стояла, почувствовала, что кто-то обиделся, а кто — не поняла.
— Я на себя в обиде. Вы тут ни при чем.
— Григорий Иванович за Полинкой плывет, — сказала она. — Мы с ним вместе в школу бегали, а в тот год, когда десятый кончали, в первый пришла Поля: круглая, ноги колесом и синие глаза во все лицо. И Маня тогда в школу пошла — жена паромщика. Теперь все мы одного звания — бабы.
— Вы в лодке, с ними переправитесь?
— Я на пароме люблю, здесь как на пароходе.
— Правда, в ремесленном сын? Не сажали?
— За что? — испугалась Любаша. — И мысли такой не было. Он протянул ружье отцу дулом вперед в лодке, а оно зацепилось курком за скамейку.
— Ездите к нему?
— Приезжаю в Рязань, и молчим вдвоем.
— Как я жалею вас! — вырвалось у Яши взволнованно.
Женщина неожиданно рассмеялась, так же глухо, хрипловато, как и говорила, смех был необидный, грустный.
— Я к жалости не привыкла, — сказала она. — Мужа уважали в деревне, жили мы хорошо, дружно, он трактористом был: у него верные деньги, и я на зарплате. У нас знаете, как говорят, когда умирает человек, который неплохо жил? Говорят — он свое пожил, не жить же ему еще и чужое. Это трудно понять?
Яша пожал плечами.
— Оно не сразу сложилось. Война многое сделала. Вы Полещука не любите?
— Я б его сено пожег, да машину жаль, — сказал вдруг Яша с мальчишеской ухмылкой. — Сунул бы огонь, и всего дела!
Он ткнул окурком впереди себя, уронил его в воду и проследил за ним, будто ждал, что и темная Ока, и паром с машиной и с сеном займутся от его тлеющей папиросы.
Окурок зашипел и погас, помедлил долю секунды и поплыл вниз, в неспешном, словно утихающем к ночи течении. Потом его накрыл темный нос лодки. Муж Полины не повел плоскодонку к берегу; держась руками за паром, выводил ее к тому месту, где стояла, уже выбравшись за перила, жена.
Полина молча подала ему сложенную косу, узелок, пиджак и неуклюже соскочила в лодку. За ней спустились офицеры, и майор сказал:
— Я погребу, Григорий Иванович.
— Чего ж, коли охота. Садись! — Уже готовясь оттолкнуться от парома, он заметил заведующую почтой. — Люба! — окликнул он ее. — Ходи к нам, Ефим долго колготиться будет.
— Утопнем. Я тяжелая… — Она снова чему-то смеялась, а Яша стоял, отвернувшись, встревоженный, чувствуя, что Любаша сказала это не для людей вокруг, а для него, не понимал зачем и волновался, что она передумает и сойдет в лодку. — Раису возьми, ей скоро надо.
— И правда, что же это я! — спохватилась Полинка. — Давай скорее, Раиска, давай к нам… Она тебя, Гриша, первая и приметила.
Раиса с постным, сердитым лицом скользнула в лодку.
Все случилось не так, как мнилось Ефиму.
Уже Маню исколотило об ограду загона, и в наступающих сумерках, в красноватой мгле, затянувшей старицу, лес и луга, ей казалось, что не будет конца упрямству Фильки. Пастух обозлился, кинулся на быков с бичом и вскачь погнал их от стада; спасаясь от него, быки скакали рядом, позабыв о взаимной вражде.
Пока пастух вымещал на них злость, Цыган сошел наконец с места и тронулся, сначала медленно, затем все убыстряя шаг, к Лыске. Ефим пытался прогнать его, но старый, тяжелый бык даже не скосил на него глаз…
Теперь Маня бегала по толоке, волоча за собой упирающуюся корову, а Ефим, стоя на коленях, пил из граненого, непрозрачного уже от частого пользования стакана. Надо было торопиться к парому, и так он преступил все нормы — Ефим видел и лодку, на которой переправились офицеры, и ушедших в луга практикантов, и пацанов, стороживших его с верхушки столба.
На Оке зажглись бакены, их неяркие огни тоже корили Ефима. Кусок не лез в горло: он допил водку, отломил немного хлеба и вскочил на ноги.
— Будет тебе шастать, Маня! — закричал он. — Ничего ей не сделается, понесет.
Маня диковато скакала по темному лугу, то уступая Лыске, которую все еще влекло к стаду, то упираясь и заставляя ее идти за собой. И в лице, и во всей фигуре Мани, в сбитой набок юбке, в изорванной на спине кофте было что-то счастливое и неистовое, неотделимое от этой земли, от черной полосы лесов на горизонте, от частых зарниц, и что-то еще, раздражавшее Ефима, отдельное от него, от его забот о переполненном людьми пароме.
— Цыган так Цыган! — Ефим махнул рукой, прощая пастуху случившуюся неувязку, подобрал брошенные женой калоши, сунул их за раструбы сапог. — Плотиной пойдешь?
Пастух кивнул: ему от плотины ближе к верхней околице.
Ефим подождал на дороге Маню, пока та привела Лыску, тяжело дыша и утирая рукавом вспотевшее лицо.
— По-твоему вышло: Цыган навязался, — сказал Ефим неопределенно. — И хватит ее гонять… — Он поднял валявшуюся на обочине палку. — Больно она у тебя в мыслях. Распустила! И детей балуешь, — попрекнул он ее некстати.
— Палкой не бей. Ее теперь бить нельзя.
— Жалеешь! — досадливо протянул он.
Маня молча шла рядом.
— И мать жалеешь! — воскликнул он с мгновенной пьяной скорбью. — И детей. А меня — нет! Одного меня — нет!
Маня забежала вперед, остановила Ефима, схватилась за его рукав, светлые глаза под густыми ореховыми бровями налились болью и нежностью.
— Что говоришь, что говоришь, Ефим! — сказала она в страхе. — Я тобой только и живая, слышишь?
Ночью, проснусь одна, нарочно сон гоню, о тебе думаю.
— Ты скажешь!
— Жалеть тебя зачем? Ты, когда тверезый, лучше всех. Я, Ефим, и не чаяла, что за тебя пойду, — призналась она покорно. — Скажет кто: скоро Ефим из армии придет, а я и подумать не смею. Ну придет, а тебе что такое? Есть и получше тебя…
— Это кто, к примеру? — презрительно спросил Ефим.
— Полинка. Евстигнеева Глаша… Мало кто.
— Пошла дурных телок перебирать! — льстиво сказал Ефим. — На рупь — десяток!
— А ты меня взял… — сказала она благодарно, будто о недавнем, вчерашнем. — Я каждое твое слово помню. Каблук твой с подковкой, как он на танцах в клубе стучал, и то помню.
— Охота была!
Маня потянулась к нему, прильнула маленьким тяжелым телом.
— Пацаны смотрят! — Он отстранился. — Дозорные.
— Не чужие ведь мы, — сказала Маня.
— Сегодня домой приду. Пускай мать подождет. Я и не пил нарочно… Так, рот ополоснул.
— Вместе пойдем, — сказала Маня. — Вдвоем и Лыске спокойнее, не оступится.
— Зачнешь теперь на руках ее носить! — проворчал Ефим.
Пойма засыпала молча, без привычного оглушительного стрекота кузнечиков, сраженных сенокосом. Ока несла свои воды неслышно, глухой гул шел от плотины, неясно белела пена, плывущая вниз по течению.
На пароме зашевелились, пропуская Ефима, освобождая место для Мани и Лыски. Люди оживились, послышались шутки и незлобивые попреки.

























