Три тополя
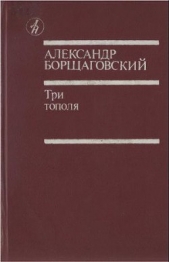
Три тополя читать книгу онлайн
«Три тополя» — книга известного прозаика Александра Михайловича Борщаговского рассказывает о сложных судьбах прекрасных и разных людей, рожденных в самом центре России — на земле Рязанской, чья жизнь так непосредственно связана с Окой. Река эта. неповторимая красота ее и прелесть, стала связующим стержнем жизни героев и центральным образом книги. Герои привлекают трогательностью и глубиной чувства, чистотой души и неординарностью поступков, нежностью к родной, любимой природе, к детям, ко всему живому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы сто лет живем здесь, дедушка. Мы — русские, — сказала девушка.
Совсем запутавшись, старик покачал головой, на помощь ему пришел лобастый мужик; он полулежал, привалившись спиной к косилке.
— Зерно у них крепкое, — сказал он. — Семя ихнее всегда верх берет, понял? Ну, просто сказать, едучий корень: хоть с кем ни повяжи, а их верх. Она и русская уже, а ты не признаешь.
— Ну и что! — вспыхнул очкарик, стараясь защитить Соню, хотя ее нисколько не задели эти слова; ее нежно-смуглое лицо и темные раскосые глаза смотрели так же доверчиво. — Что же, по-вашему?
— А чего? — сказал лобастый. — Любишь — женись. Они работящие.
— Копешки зачем на лугу меряли? — допытывался старик. — Забирать будете?
— Что ты, дед, из ума выжил? — крикнул кто-то из толпы. — Они ж практиканты. Пятый день голодом доходят, колхоз их на довольствие не ставит; они и вовсе бесправные. Пусть меряют.
— Вот именно! — Очкарику хотелось сохранить независимый, иронический вид, но ему это плохо удавалось.
— А это сено чего не меряете? — Дед показал на машину.
— Зачем? Это — чужое.
Дед из Верхнего помедлил, пожевал сухими губами и сказал нарочито громко:
— Краденое это сено, я так рассчитываю. Может, у вас краденое, а может, и у нас. Должно быть, от Митрича. Он своей десятки не упустит. Оно, видишь, и сложено, как краденое.
— Да? — заинтересовался практикант. — Как это?
— Кидали второпях. Жадно брали, по-базарному, с походом. И вязал дурак, хоть бы Митрич ему пособил.
— Митрич свою коммерцию сделал и на ногах стоит ли? — сказал лобастый. — Верно?
Люди закивали. Все верно. Купил сено — и укладывай его толком, и вяжи. Никто за тебя этого делать не обязан.
Полещук слышал громкий конец их разговора, но спина его с остро торчавшими под выгоревшим френчем лопатками не дрогнула. А Яша выскочил на палубу, мучимый желанием крикнуть на весь паром, что сено и правда краденое, что грузил сено он, он и вязал всю эту громаду, пока Полещук с лесником Митричем стукались стаканами, что он мог бы увязать получше, но не хотел, пусть хоть все сено растрясется в дороге, ему не жаль. Но крика не получилось, он отошел к борту, закурил и, затянувшись табачным дымом, заметил, что стоит рядом с Любашей, так близко, что услышал лесной сладкий дух.
Любаша скользнула взглядом по его белобрысому, обиженному лицу, вспомнила, что обделила его, и с виноватой улыбкой протянула бидон. Яша покачал головой.
— Я мужика жалею, — поплыл над паромом тенорок Полещука. — Я его всегда жалею и всегда его сторону держу. Если народа держаться, то и он тебя уважать будет. Правильно говорю?
— Ты как мыслишь, — спросил чей-то простодушный голос, — подметут у нас зерно или планом обойдутся, как писано было?
— Где писано? — Полещук растерялся, ему хотелось выиграть время, теперь весь паром слушал разговор, и разговор серьезный, ни в коем случае нельзя дать маху.
— В новом законе.
— В газете, верно, — сказал Полещук. — Статья, брат, не закон.
— Подметут или не подметут, ты прямо скажи!
Полещук заискивающе улыбнулся, открыв желтоватые, почти неразличимые на его лице зубы, и сказал как-то облегченно:
— Чего мести, нагибаться! Сами свезете!
Практиканты пробирались мимо людей к берегу.
— Плотиной не пустят, — сказал им Петр Егорович. — Там охрана.
— А мы попросим. — Соня улыбнулась так, что Петру Егоровичу показалось вдруг, что, может, и пустят.
— Семка! — крикнул он. — Чего там, на ферме?
— Опять поврозь, дядя Петя! — закричал Семка.
— Тоись как свезем?! — наседал на Полещука чернявый скуластый мужик с перебитой на войне ногой. Он даже начал переступать с ноги на ногу, как при команде шаг на месте. — С какой радости?
— Милый ты человек, — вздохнул Полещук, — ты мне вопросов не задавай. Я три года хлебоприемным пунктом ведал, я все ходы знаю.
— Зачем свезем?
— А затем, что у вас его сохранять негде. Понял? Ты по весне зерно покидал в землю, а хлеб, который будет, уже не твой, он народный. За него отвечать надо. Обмолотишься, а там как? Зерно на земле, под облачком, не бросишь, верно? За такое и судить можно. Для посевного у вас худой амбар есть, а большой хлеб и ссыпать некуда. Не так говорю?
— Отчего же людям не дать? Я хоть тонну в избе уложу.
— Ты уло-ожишь, — пропел Полещук. — Ты и десять тонн уложишь. А потом? Спекуляция пойдет? Не зна-аю… — задумчиво протянул он. — Верно, теперь и мудрят, меру ищут, какой тебе хлеб отмеривать.
— Кто ее знает, нашу меру!
— Я так полагаю — тут она! — Полещук погладил себя по тощему животу. — В брюхе. Нашего мужика нельзя с заграничным мешать. Нашему фигли-мигли не нужны, ему одно требуется — сытым быть, и все, всего дела. Чтоб и он сытый, и дети с приварком… А то кто же на Луну-то полетит? Туда квелого не толкнешь, расстояние не то.
— Черти б и летали!
— Нельзя! Тут наша с капитализьмом конкуренция! — Полещук задрал лицо к небу, будто искал над берегом луну.
— А ты сам-то заграничного мужика видел? — спросил Петр Егорович.
— Не доводилось. А по книжкам знаю. Не врут же наши книжки.
— То-то и оно, что по книжкам. А у нас каждый второй мужик если не жизню, то ноги-руки в загранице оставил! — Он говорил раздумчиво, словно в бессильной грусти, но за всем тем, по сузившимся глазам, по сгорбившейся спине, угадывалась злость и даже гнев. — Свистни я тут на пароме фронтовиков, ты и не поверишь, сколько их: мы здесь друг другу цену знаем.
— Зачем же лучше, — смиренно сказал Полещук. — Знаешь цену — и плати по ней.
— А не платят! — закричал Петр Егорович. — И полцены не платят. И трети даже не дают. Знаешь его? — Он показал на безмятежного лобастого мужика.
— Отчего же не знать, — сухо ответил Полещук.
— Он Европу всю прошел; может, и товарищу майору того не снилось, сколько он пешим шагом отмерил. — Он подождал из учтивости, может, майор захочет возразить. — У него и голова, видишь, не стандартная, памятливая, и рукам цены нет. Он и дом сложит, так что паклю бить некуда — щели не найдешь, и сеть любую свяжет, липучку, ни одна рыба мимо не пройдет, верно, майор?
— Знаю я его сети, — подтвердил майор.
— Любой мотор переберет, запустит и машину поведет, хоть по земле, хоть по воде. А ну давай на катер! — предложил он вдруг лобастому. — Переправимся без Ефима, пусть потом с Лыской чешется.
— Он ключ унес, — сказал лобастый. — Я уж смотрел.
— Слыхал! — восторженно подхватил Петр Егорович. — Он уже и то знает, что в машине ключа нет. А мы с тобой? Сидим? Воздух портим?
— Ты не груби, Петр Егорович! — обозлился Поле-щук.
— Крадем еще! Я жердя, а ты вот сено от Митрича.
— Из Клепиков сено! — Лицо Полещука впервые налилось краской, вокруг рыжих бровей стало неприятно, не по-живому розово. — У меня документ.
— У тебя всякий год документы, твоя сверху, — сказал Петр Егорович. — А он — без! Документы, как деньги, один к одному идут, а у него и вовсе документа нет. Видишь, счастливый лежит, помахал косой досыта, зашиб в десять дён Нюркину легкую тридцатку, теперь куковать будет, пока его куда покличут, новый сортир при чайной ставить или баржу по весне ломать. Это истинная грубость — человек все может, а ему жизня — шиш!
— Корыстный ты человек, Петр Егорович! — Полещук покачал головой с искренним сожалением.
— Он не денег просит, а дела, пойми ты корысть нашу глупую. Де-е-ла! Чтоб не совестно было день провожать и новый почать хотелось. Э-э-э! Не поймешь ты этого! — Тишина объяла реку и ее берега, пойму и правобережные крутояры, ни ветерка, ни звона кузнечиков в сохнущих травах, ни даже плеска реки — только далекие звуки мотора где-то у плотины и время от времени тревожный рев быка на ферме. — Я вот телят пасу, это же, Полещук, вон для кого, для Семки дело, мне это — тоска. Понял: тоска и сон. Я не только жердя рубить, я лес казенный скоро валить зачну. Понял?
— Злой ты, злой, Петр Егорович! — Полещук говорил обиженно, но как будто готовый простить.

























