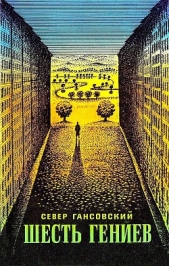Таврия

Таврия читать книгу онлайн
Над романом «Таврия» писатель работал несколько лет. Неоднократно бывал Олесь Гончар (1918–1995) в Симферополе, Херсоне, Каховке, в Аскании Нова, беседовал со старожилами, работал в архивах, чтобы донести до читателя колорит эпохи и полные драматизма события. Этот роман охватывает небольшой отрезок времени: апрель — июль 1914 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хватит с них, — махнул рукой приказчик. — Показались в степи, и довольно… Теперь пусть хоть всех птиц перережут, я свое сделал…
Разошлись девушки с вилами по сенокосу, заняла себе Олена Прокошки-орловца покос…
Дружно кипела работа до самого обеда, не было на кого покрикивать Гаркуше: вилы так и сверкали в руках у девушек, напевно посвистывали косы в траве. За полдня обгорели косари, спины и грудь у них покрылись свежим загаром, покраснели на жаре так, что, казалось, и ночью, в темноте, рдеть будут.
Во время обеда настроение приказчика было в значительной мере испорчено. Началось с молока. Наиболее дотошные сезонники стали вдруг допытываться, почему это им вместо обещанных вначале галушек с цельным молоком дают какую-то бурду со снятым? Кто же, мол, вершки слизывает? За море идут? А разве за морем коровы не доятся? Или, может, там работа тяжелее, чем здесь?
Все знали, что молока на Кураевом много, тысячами струек звенит оно ежедневно в оцинкованные подойники. Распухали пальцы у доярок, пока выдоят стада. Была на хуторе даже удивительная машина для молока, — сезонницы уже ходили накануне гуртом на нее смотреть. Хитрая та заморская машина — сепаратор: снятое оставляет в Кураевом, а сливки топит куда-то далеко, в свои загребущие края. Вначале их в бидонах отправляют в Каховку, там сбивают из них масло и, оставив пахту каховчанам, отправляют готовое масло еще дальше, за море, к тем, кто прислал Фальцфейнам молочную веялку.
Не хотел Гаркуша с первого дня ругаться с сезонниками, пытался все свести к шутке:
— Много родственников у нашей пани Софьи по заграницам, да все, видно, католики… Никаких постов не признают, едят скоромное и в петровки!..
Но сезонники не принимали приказчичьих шуток, они шутили по-своему. Только покончили с молоком, как уже перешли к хлебу, недопеченному, мокрому. Одни лепили из него лошадок, другие верблюдов, а третьи, налепив жаворонков, принимались тут же учить их летать. Один такой жаворонок, выпорхнув из-за чьей-то спины, просвистел над самым ухом Гаркуши, вызвав среди батраков всеобщий хохот… Ну и народец!
После обеда работали уже не с таким усердием, как в первой половине дня, однако в общем хорошо. Оголили до вечера степь, лежали покосы на версту от табора.
Вечером опять недоразумение: стали сезонники охапками тащить свежее сено в свою загородку. Пытался останавливать, перехватывать Гаркуша, — куда там, лучше посторонись!
Навалили, разлеглись, как господа.
— Желаем на духовитом сене спать!
Пригрозил приказчик, что накажет за такое своеволие, обещанной чарки не даст.
— Ну и не давай, черт с тобой!
— Хоть залейся его!
И лежали, развалившись на сене, как их благородия.
Потянулись дни за днями. Ложились покосы, поднимались густыми рядами валы, перерастая затем в большие копны. Гудело от усталости тело, и во сне косили — двигали руками косари. Обгорели на огненных ветрах девушки, до крови потрескалась у них на лицах молодая кожа. Ганна Лавренко работала, закрывшись до самых глаз, задыхаясь под платком, а вечером, добыв у доярок ложечку сливок, мазалась ими на ночь, лечила на губах кровавые трещины.
— Врут, не обгорю, не почернею, — говорила она подругам. — Буду белая, как эти сливки.
Сама не знала, для чего белизну наводит, для кого бережет свою красоту, но все-таки белилась, берегла. Наедине жаловалась Вусте:
— Что это такое? Возле Олены и особенно возле тебя ребята все время вьются, а меня как будто чураются, обходят. Скажи мне правду, Вустя, разве я не красивая?
Голос ее звенел искренним беспокойством.
— Не потому это, — ответила Вустя подруге. — Красивая ты, может даже слишком красивая, но как-то не по-нашему, не простой красотой… К тебе, как к панночке, мужицкими руками и прикоснуться страшно.
В самом деле, Ганна казалась здесь многим белой вороной, ее холодная неприступность и ослепительная красота отпугивали даже приказчика, который, считая, что этот «квас не для нас», все упорнее домогался ласки другой криничанки, Олены Персистой. Однажды за обедом Олена, смеясь, рассказала, как приказчик ухаживал за ней на сенокосе.
— Хвалился, что придет сегодня ночью попугать…
— За загородку? — удивленно спросила Ганна.
— А куда же…
— И тебе… смешки?
— А почему нет? — опять засмеялась Олена, влюбленно посмотрев на орловца, сидевшего рядом с ней. — Может, кухаркой сделает, если не буду ломаться…
— Ну тогда, Олена, чтоб снятого молока для нас не жалела: по ведру на брата, — заметил Прокошка, и все засмеялись.
В ту ночь Гаркуша действительно долго кружил возле батрацкого сеновала. Сезонники уже храпели, а приказчик, не находя себе места, все мыкался поблизости в темноте, как волк. Ни с того ни с сего заговаривал со сторожами (сторожили в таборе Сердюки), то ласкал собак, то просто торчал где-нибудь под кошарами, прислушиваясь к малейшему шороху.
Взбунтовалась приказчичья кровь, водит, не дает спать!.. Сторожа, догадываясь, в чем дело, старались держаться подальше от сеновала. Пусть лезет, пусть уж кладет себе под бок ту, которую сумел уговорить!..
Было уже за полночь, когда Гаркуша, проскользнув, наконец, за загородку, двинулся на цыпочках вдоль батрацких пяток, прислушиваясь к храпению сезонников. Постояв некоторое время возле девичьих рядов, он решительно опустился на четвереньки и осторожно полез в темноте на сено.
Олена спала на своем месте. Найдя ее в темноте, удивленный приказчик вдруг почувствовал, как девушка, поймав его руку, стала сжимать ее совсем не с девичьей силой. Еще не успел он опомниться, как Олена другой рукой уже крепко схватила долгожданного любовника за загривок и встряхнула его так, точно добрый дядька. Тем временем появилась откуда-то и третья Оленина рука, за нею — четвертая, пятая!!! Ловко накрыв Гаркушу сверху какой-то попоной, все эти руки начали молча толочь его.
Сопело сено, хрипело, хекало, но не кричало. Железные кулаки Олены, которых становилось все больше, дружно месили Гаркушу со всех сторон, не давая ему опомниться. Все шло кувырком. Надсадно дышали сверху железные Олены махоркой, прыскал где-то в стороне девичий смех, стучали в колотушки, расхаживая по табору, сторожа, не подозревая, как летят тут перья от их приказчика. Подать голос, кричать караул? Но ведь тогда другие приказчики насмерть его засмеют, выживут из имения!
Наконец те же многочисленные руки Олены, подняв измолоченного Гаркушу на воздух и крепко раскачав, швырнули с сеновала за ограду.
— Проклятый Серко, — послышался вслед чей-то басовитый, явно измененный голос. — Мне показалось, что волк лезет!..
— Это не серый, — возразил другой голос, тоже измененный до неузнаваемости. — Это, видно, цепной с хуторов забежал: шея начисто вытерта…
Пробейголовы, они еще глумились над ним!..
На другой день Гаркуша ходил запухший, в синяках, но — никому ни слова. Управляющему, который, приехав осматривать сенокос, заодно поинтересовался и шишками приказчика, Гаркуша невнятно пробормотал что-то об осиных гнездах и поспешил перевести разговор на другое.
Приказчик не без основания подозревал, что среди тех, кто тузил его, первыми заводилами были орловец и Андрияка… Он их угадывал по железным кулакам. Против них затаил глубокую злобу и потому решил, что кого-нибудь из этих верховодов надо непременно переманить на свою сторону, чтоб расколоть, обессилить батрацкую верхушку. Выбор пал на Федора Андрияку.
— Слушай, Федор… — начал однажды Гаркуша, подойдя к парню, когда тот клепал во дворе косу. — Давно хочу поговорить с тобой как земляк с земляком.
— Какие же мы с вами земляки? — удивился Федор. — У вас тут хутор и, наверняка, землишки десятин двести, а у меня торба блох там, на сеновале, лежит…
— Уж ты начнешь сразу… Это тебя, наверное, тот орловский научил… Ну чего ты с ним дружбу водишь, скажи мне, Федор? Что он тебе, брат или сват? Подумай, куда он тебя заведет? В острог да на каторгу, не иначе! Брось ты его, Федор, — зашептал над самым ухом Гаркуша, — добра тебе желаю, правой рукой, подгоняльщиком своим сделаю!..