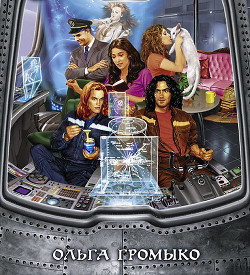Предания случайного семейства

Предания случайного семейства читать книгу онлайн
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом. Реальность отдает безумием, форсом, тем, что сегодня принято называть «достоевщиной» («Лифт»). Революции, социальные и научно-технические, привели к появлению нового типа личности, иных отношений между людьми и неожиданных реакций на происходящее («Человек плюс машина»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну ничего, она у меня бодрая старушка. Так, смеясь, сгибаясь с непривычки под тяжестью мешков и чемодана, они прошли еще немного вперед и остановились, так как не было известно, где окажется их седьмой вагон. На соседнем пути стоял состав на Ташкент. Два узбека в телогрейках поверх халатов тащили ковер. За ними плелась патриархальная какая-то семья с бабаем, опирающимся на палку, ветхим и недовольным тем, что молодые дочери его (если только не жены) то и дело теряли разбегающихся своих татарчат. За этими прошел какой-то важный узбек в драповом пальто, в белых бурках и каракулевой ушанке. Разговаривая с русским своим собеседником, одетым примерно так же, он грозил ему пальцем и все повторял: «Нэ докажитэ, нэ докажитэ». Они стали неподалеку, и разговор был у них, кажется, о национализме. Навстречу им прошла пьяная русская компания, провожавшая невменяемого уже приятеля и забывшая, в какой ему надо вагон. Наконец, пугающе неслышно, потому что все отвлечены были появлением узбеков и русских и их криками, подошел их поезд. Сперва где-то в уголке глаза возникал отблеск оттого, что под тяжестью вагона светлый рельс прогибался и бликовал, затем оттуда же надвигалось неясное темное пятно, и лишь тогда ухо различало стук буферов и легкий шорох близко подобравшейся массы.
Они занесли вещи в вагон и сели там в полутьме; полный свет не был еще зажжен, горели лишь тощие лампочки в проходах. У них был плацкартный вагон, в их отделение еще никто не пришел, и нужно было сторожить вещи. Они сидели тихо, наблюдая в окно за казавшимся отсюда ярко освещенным перроном, откуда должен был сию минуту отойти поезд с узбеками. После той катастрофы Николай некоторое время боялся ездить в поезде, теперь это снова пришло ему на ум, и он хотел спросить деда: нет ли у того такого чувства или предчувствия, что с ними что-нибудь случится (считалось, что у Анны, например, в тот раз было такое предчувствие). Он, однако, благоразумно решил этого вопроса не задавать; он видел, как вся горит от возбуждения, но тем не менее молчит Галина Васильевна, и хотел подражать ей, сдерживая себя.
Ее благородное, с правильными чертами лицо было красиво в этом боковом рельефном освещении, и Николай невольно сравнивал ее с своей матерью. Он попытался вообразить себе встречу Галины Васильевны с сыном, про которого столько слышал и который, воображаемый, давным-давно включен был уже в мир его фантазии: он часто рисовал себе приезд того в Москву, их встречу, удивление того, старшего, перед тем, насколько умен этот, еще не видавший жизни, юноша, и тому подобное. Представив себе его и сейчас по фотографиям, которые он как-то видел у Галины Васильевны, привычно жалея о том, что такого старшего, подлинного друга, идеального повторения его самого, у него нет, он вдруг неожиданно, непонятно почему вспомнил и о своем отце. Его отец умер, когда Николаю было пять лет; он его почти не знал и редко думал о нем. Он не мог даже сказать, что чувствует в том какую-то потребность, что ему это для чего-то нужно. Иногда, натыкаясь в старом, отслужившем свое чемодане на отцовы письма, он пробовал их читать, но, как правило, у него недоставало энергии надолго. Фотографий и вообще сохранилось лишь несколько. Часто говорили, что он похож на отца, ему это нравилось; но еще чаще (большинство теперешних знакомых отца не знало) говорили, что он похож на мать. Это нравилось ему меньше — быть похожим на женщину казалось несколько унизительным. Тогда он извлекал из коробки отцовы фотокарточки и, глядя то на них, то на себя в зеркало, отыскивал одинаковые черты. Этим как будто и исчерпывались их отношения. Мать предпочитала об отце не говорить — в лучшем случае о том, какие у него были «золотые руки» и как он мог все сам сделать, — полагая, что незачем акцентировать внимание ребенка на отце и, кажется, просила о том же всю остальную родню. Сама она считала, что у нежелания ее вспоминать об умершем есть объективные причины; эти объективные причины были те, как подозревал, однажды рассуждая сам с собою на эту тему, Николай Владимирович, что, как и сам он, она просто не любила вспоминать о своей молодости, стыдясь хуже, чем стыдилась бы разгула, своих иллюзий и своей неискушенности.
Как бы то ни было, сын пока что духовно подчинялся ей, и вот только сейчас, впервые к смущению его и позору, ему понадобился вдруг отец. Он впервые задумался о нем. Впервые те несколько эпизодов пришли ему на ум, что сохранила случайная детская память, но он увидал своего отца как бы живого, может статься, даже воскресшего. Отец был в шапке-ушанке, в полушубке и в валенках, как на какой-то из фотографий. В руках его была тетрадь, не тетрадь, собственно, а так называемая «Амбарная книга» (там так и было видно издали — «Амбарная книга»). Поодаль возвышался лес, недостроенный не то дом, не то склад выступал в углу, слева. Почему-то это было как раз там, куда ехали сейчас дед с Галиной Васильевной. Сын ее тоже должен был быть где-то рядом. Его отец был над ними десятником и возвышался огромным, тяжелым и сильным, каким он никогда при жизни не был.
Молодой глуховатый офицер-танкист с бойкой женой пришли на соседние места, когда до отхода поезда оставалось минут семь, не больше. Их никто, слава богу, не провожал, и можно было выйти на перрон. По-прежнему молча они прошлись раза два туда и обратно вдоль страшной щели меж краем платформы и корпусом вагона.
— Ты, может, пойдешь уже? — предложил Николай Владимирович.
Тот замотал головой: нет, нет. В эту секунду объявили отправление. Раздробившись на маленькие кучки, кругом стали прощаться.
— Ну, попрощаемся и мы, — сказал Николай Владимирович.
Неловко они поцеловались, замечая подробности прикосновения кожи и губ. Галина Васильевна тоже хотела было его поцеловать, но не решилась, подумав о его бабке (о Татьяне Михайловне); он тоже не осмелился подставить ей щеку, как деду.
— Скорее, скорее, Галина Васильевна, — заторопился Николай Владимирович, помогая ей взойти в тамбур вперед других. Потом шагнул и сам. Галину Васильевну затолкали вглубь. Приподнявшись на цыпочки, можно было видеть ее лицо, дед был ближе. Николай крикнул ему, чтобы они шли в вагон. Идя назад, параллельно им вдоль вагона, он смотрел, как они, маша ему руками и стуча в стекла костяшками пальцев, продираются к себе.
Поезд тронулся снова незаметно и беззвучно. Еще не уловив ясно этого, не поверив ощущенью, Николай остановился, и дед в окно улыбнулся его растерянности. Несколько мгновений он шел за поездом, держась рукою за стенку вагона. Потом кто-то помешал ему; пока он обходил этого человека, поезд набрал уже ход и шага перестало хватать. Николай отошел на середину платформы, чтобы лучше видеть, но тут же потерял их из виду. Белое лицо деда в последний раз померещилось ему, мелькнуло где-то наискось впереди, но он не был убежден уже, что это точно дед.
Он остался один.