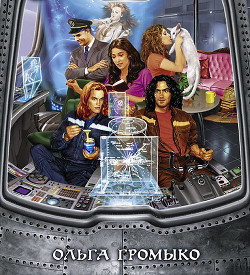Предания случайного семейства

Предания случайного семейства читать книгу онлайн
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом. Реальность отдает безумием, форсом, тем, что сегодня принято называть «достоевщиной» («Лифт»). Революции, социальные и научно-технические, привели к появлению нового типа личности, иных отношений между людьми и неожиданных реакций на происходящее («Человек плюс машина»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он постоял еще с минуту, сомневаясь, не пойти ли ему за нею в тот конец коридора. Потом приоткрыл дверь и выглянул. Ее не было в коридоре, зато у самых их дверей, обитых черной клеенкой, соседка стирала в детской ванночке, установленной на табуретке, а другая говорила, подбоченясь, по телефону. Тогда он тихо выскользнул из квартиры. К счастью, он помнил систему их дверных замков и запоров.
* * *
Едва он снова оказался на улице, как тотчас же ему расхотелось идти к Стерховым и присутствовать на семейном обеде, где все сразу же должны были заметить, что с ним что-то произошло, и где он не сможет совладать с собою, держась независимо. У него возник план подойти, чтобы проводить деда, прямо к поезду, а до того часа побродить по улицам, постепенно приближаясь к вокзалам. Однако, пока он дошел до Никитских ворот, голова его разболелась уже по-настоящему и он почувствовал, что пробыть три часа на ногах не сможет. Он возвратился к себе домой, то есть к тетке, в Крестовоздвиженский, и, благо ее не было дома, просидел эти три часа в темноте, не зажигая света и не отвечая на звонки, в пыльной ее, заставленной обветшавшими вещами и не прибранной еще перед праздником комнате.
У Стерховых в это время обедали, поругивая его и споря о том, неуважение ли это или просто детское легкомыслие. Его выручило отчасти то, что, помимо него, отсутствовал также еще муж Катерины, отмечавший праздник на службе с приятелями.
Потом Стерховы стали прощаться. Татьяна Михайловна крестила мужа, шепча: «Храни тебя Бог», — как заклятие. На лицах дочерей изобразился суеверный страх. По обычаю все присели, причем Анна, как и всегда, требовала, чтобы не сидели на мягком, а также чтобы ноги были подняты на мгновение от земли. Потом снова они целовали Николая Владимировича.
На улице казалось сыровато, но одновременно будто и похолодало против того, что было днем. Еще в такси, где откуда-то дуло, Николай Владимирович озяб. Он приехал на вокзал задолго до срока, когда поезд еще не подавали, и спустился вниз, в зал ожидания.
Там не было свободного места. На скамейках с высокими спинками спали, как и прежде, вповалку женщины и дети, и отцы с опухшими от переутомления лицами, с набрякшими веками, подымали мутные глаза на проходящих, оберегая пожитки. Тяжелый, специфический вокзальный смрад стоял в воздухе. Поодаль цыгане расположились прямо на полу табором. Какая-то молодая баба, стыдясь, приподнявши подол, доставала из-под него кошелек с деньгами. Николай Владимирович тоже машинально ощупал свои деньги в заколотом английской булавкой нагрудном кармане. Взгляд его упал на какого-то мужика, спавшего почти возле самых ног его на полу. Мужик, видно, понаторел уже в таких путешествиях, не первый раз пересекая из конца в конец огромную страну. Поразительно было то, как он сумел свернуться калачиком, так что занимал, наверно, не более квадратного метра всем своим телом, и сюда же, в этот квадратный метр вместился и его мешок, на который он положил голову, обнявши его обеими руками. С ногами своими он также обошелся очень ловко, сняв до половины сапоги, — чтобы ноги отдыхали, но также и чтобы не лишиться сапог совсем. Николай Владимирович, когда он представлял себе порою, что уйдет из дому, бросит службу и будет скитаться по России, почему-то всегда тоже воображал себя спящим вот так же, как мужик этот, на полу на вокзале. Именно такой должна была быть его первая ночь, и сколько их суждено было б, если б он только решился на это, потом. С замиранием сердца он нарисовал себе, как постепенно будет изнашиваться его одежда, как затем кто-нибудь из добрых людей подарит ему такие же сапоги; и с каким нелепым восторгом Николай Владимирович подумал, что нужно будет обязательно запомнить эту хитрость с сапогами — как будто и впрямь ему могла представиться такая возможность спать где-то в углу, спустивши с натруженных ног наполовину грязные кирзовые сапоги. Он почувствовал непонятную нежность к этому мужику, младенчески причмокивавшему во сне и, быть может, спавшему-то так крепко оттого, что он выпил накануне, и вдруг отдал себе отчет в том, что может теперь ответить на тот вопрос, который задавал себе давеча: зачем он едет, что за бес толкает его под ребро.
Он вдруг сказал себе, что важнее всего в этом путешествии было ему не проявить, как предполагал он, свою обособленность («Вовсе нет!» — с силой сказал он себе, вспомнив о Татьяне Михайловне), но просто еще раз, наверно, уже в последний, поехать по железной дороге опять на восток, чтобы увидеть ту, глубинную Россию; отдаться на мгновение панике забитого людьми вокзала; потом ехать куда-то, прильнув к грязному, замызганному окну, узнавать когда-то виденные полустанки; потом идти по пролеску, вдыхая запах оставшейся уже лишь намеком русской деревни; зайти в избу, содрогаясь от ее нищеты и грязи, очутиться, наконец, в лесу или в поле, — словом, коснуться перед смертью еще однажды всей той жизни, которая теперь уже распадалась, исчезала, которая была ему дорога и бытие которой, хоть он и не жил ею прямо, он носил в себе, сознавая своею.
В этот момент он увидал внука. Когда Николая Владимировича грызла порою совесть, что он не умеет найти общего языка с внуком, не умеет разговориться с ним по-настоящему, перешагнуть барьер взаимной отчужденности, что мальчик, живя вдали от него, теряет что-то хорошее, присущее им, Стерховым, которое он, его дед, обязан был развить в нем, и когда он, исподволь подготовясь, помня что-нибудь характерное, сказанное во время их предыдущей встречи, приступал к разговору сызнова, то всегда убеждался неожиданно, что перед ним стоит уже совершенно иной человек, движимый уже иными интересами и иной волей, причем постичь так сразу смысл этих перемен, уловить их общую суть Николай Владимирович был не в состоянии. Так было и на этот раз. Ему снова оставалось лишь недоумевать о причинах, приведших к тому, что внук был уже не тем, каким он покинул дом сегодня в полдень. Поэтому он промолчал, не осмелясь спросить у внука, почему тот не пришел к обеду.
— Может быть, мне поехать с тобой? — засмеялся внук, тоном своим показывая, впрочем, что вопрос его вовсе не серьезен. Они выбрались наружу: протискиваясь сквозь спящих или просто таращившихся в пространство людей. Внук, перехватив у деда мешок, волочил его теперь понизу, потом вскинул на плечи.
— Так, может, мне и вправду поехать? — повторил он, пытаясь понять, как выглядит с мешком за плечами.
Николай Владимирович сказал смущенно:
— Ты ведь знаешь, что это невозможно.
— Да. А жаль. Мне как-то не приходило в голову, что это было бы лучше всего.
Николай Владимирович жалел его, но еще больше ощущал в душе своей какое-то смятенье оттого, что короткий разговор этот означал по сути дела, что естественный порядок вокруг нарушился и они с этим мальчиком поменялись ролями: как ни дико теперь это звучало, но не он уже завидовал внуку, а внезапно ему завидовал внук. Мир переворачивался перед ними. Чтобы вновь обрести устойчивость в нем, они оба стали вглядываться в даль, где в черноте мигали какие-то железнодорожные невнятные сигналы. «Семафор дали, семафор открыли», — беспокойной скороговоркой сообщали какие-то люди, всматриваясь в изгибы блестевших в прожекторных лучах путей и переплетения проводов.
— Николай Владимирович! Николай! — закричали сзади. Это была Галина Васильевна. — Вы вдвоем?! — не удержалась и спросила она, хоть и знала, что Николай Владимирович терпеть не может провожаний и не допустит дочерей везти его на вокзал.
Они кинулись к ней навстречу. Она и сама была одна и тащила большой рюкзак и еще чемоданчик в руке. Николай Владимирович, подбежав, стал упрекать ее, что она не предупредила их, что поедет одна, и не попросила за нею заехать. Она с трудом сняла мешок, лямки которого никак не желали слезать, войдя в мягкую ватную толщу шубы.
— Тише, тише, — просила она, — рукав оторвете! Вы знаете, мама собралась ехать меня провожать, но плохо себя почувствовала, и я ее не взяла.
— Да вашей маме восемьдесят лет!