Кончина
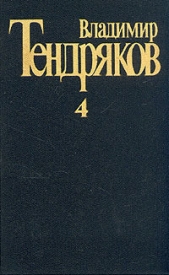
Кончина читать книгу онлайн
Умирает председатель колхоза села "Пожары" Евлампий Лыков. На протяжении последних тридцати летон руководил колхозом и отличался суровым нравом. Народ постепенно собирается у дома самого уважаемого и почитаемого местного жителя. Томясь в ожидании новостей, люди разговаривают друг с другом и вспоминают все то, что совершил в своей жизни Лыков. Постепенно вырисовывается картина не такого уж и идеального председателя. Обладая неограниченной властью, Евлампий редко слушал мнения других, а часто его решения приносили серьезный вред людям..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Лыкова-старшего обмякло лицо — снова добрый дядя, — все сказано, пронесло, а потому можно раскрыть и остальные карты. Он воркующее заговорил:
— Чего там скрывать, все мы боимся, как бы петраковские козы не обглодали наш огород. Будем помогать по-свойски, по дружбе, но помните — дружба-то дружбой, табачок врозь. Для этого и существует слово «хоз-рас-чет»! Да еще лозунг: «Кто не работает, тот не ест!» А потом поглядим: может, козы подхарчатся, молоко станут давать, тогда и в общее стадо примем.
— Ладно, не умасливай, — ответил Сергей. — Хозрасчет так хозрасчет. Не надеюсь особо из нищеты выползать на хребте пожарцев. Помогайте как можете. А мне с хозрасчетом даже посвободнее. Лезть со стороны с советами меньше будете.
Евлампий Никитич не выдержал, легонько крякнул:
— Конечно, сам себе во князях.
И правление не выдержало, грохнуло, но смеялись не злобно, с облегчением. Каждый был рад, что, слава тебе господи, сам не стал стольным князем петраковским. Хоть и учен парень, в академиях штаны просиживал, а в жизни не смыслит. Из сыновей в пасынки идет добровольно. Чуть сплохуй, Евлампий Никитич решением этого правления прикроется — помогал, условия посильные ставил, сам согласие давал, силой не неволили. Князь пресветлый, попадешь в стрелочники — любая вина твоя.
Евлампий Никитич пресек:
— Эй, эй! Смешочки не к месту!
Но не слишком строго.
Он, Лыков Евлампий, не считал глупость в людях уж очень большим пороком. Пусть глуп, да покладист, ума всегда вложить можно.
Через несколько дней в районной газете появилась статья: «Новаторство! В передовом колхозе „Власть Труда“ бригады поставлены на хозрасчет!» В те годы по деревням это слово еще не вошло в широкий обиход.
Под осень прибыли два огромных грузовика, на каждом горой тугие мешки — хлеб петраковцам. Но не просто хлеб, а с лозунгами. По бортам машин кумачовые плакаты: «Пламенный привет новым колхозникам колхоза „Власть труда!“». И тут же назидательное: «Кто не работает, тот не ест!» Хлеб привезли, но и лозунги не забыли.
Вокруг грузовиков собралось все население полузаколоченной деревни Петраковская. Босые бабы с черными ногами и спеченными лицами, за их подолы цепляются белоголовые ребятишки. Мужиков в деревне, считай, нет, а поди ж ты, плодятся… Сгорбленные старухи с жилистыми шеями, старики с седыми щетинистыми подбородками. Несколько подростков, безусых, опаленных солнцем, из тех, кто еще не доспел в армию. (Из армии уж, шалишь, в Петраковскую калачом не заманишь.) Негусто молодок, по одежке смахивающих на старух… Выцветшая, вылинявшая, иссушенная толпа, мослы, да глаза, да нестриженые космы, и общее у всех выражение недоверия.
Тугие мешки навалом, в их сытой наглядности какое-то неправдоподобие. Даровой хлеб да еще с лозунгами: «Пламенный привет!..»
Евлампий Никитич сам привез этот хлеб, закатил речугу и тоже, как водится, с лозунгами: «Добьемся высоких урожаев! Берите, ешьте и помните: „Кто не работает…“»
Евлампий Никитич — широкая физиономия словно смазана маслом, костюмчик уже тесноват — пуговицы еле сдерживали налитое брюшко. До чего же он не похож на тех, кто его слушает, — с другой планеты.
«Даем! Берите!» — широкий жест в сторону мешков. Пусть все видят, кто дает.
В стороне стоит новый бригадир — кепка надвинута на глаза, упрямый, как у дяди Евлампия, подбородок, пыльные сапоги, руки глубоко в карманах. Он обязан позаботиться, чтоб хлеб не был съеден задаром.
Он знал, что коней в Петраковской среди зимы привязывают к потолку веревками, знал, что коровник без крыши…
Одно знать понаслышке, другое видеть.
Впервые вошел в дверь скотного к коровам, увязнувшим в жидком навозе. К коровам?.. Нет! Таких коров еще не встречал — деревянные козлы, обтянутые косматыми, ржавыми шубами, не похоже, что может внутри теплиться жизнь. Живы только глаза, большие, слезящиёся, истекающие такой влажной тоской, что коченеешь, сам становишься деревянным. И вот в такую-то минуту одеревенения почувствовал на своем лице мокроту, не теплые слезы, холодная, липкая мокрота — дождь. Поднял голову и увидел над собой небо, серенькое, обычное, только перекрещенное стропилами. Обвалилось сердце, не помнил, как оказался на воле. В дверь вышел. Дверь-то была, а крыши нет.
Всего четыре километра в сторону — село Пожары. Там среди побеленных стен, под светом электрических ламп, в густом тепле, слитом из запахов парного молока, навоза и ядовито щекочущего силоса, — лоснящиеся, атласные, упругие, широкие спины рядами. Там другие животные, нисколько не похожие на этих деревянно-шерстистых, там буйная плоть, звуки ленивой жвачки, чугунные чаши автопоилок, бетонированные дорожки со стоками, брандспойты, сгоняющие упругой струей нечистоты.
Всего четыре километра, где-то на середине — узкая дорога среди полей. Четыре километра? Нет, дорога пролегает не по земле, а по времени. Там — двадцатый век, как и положено, здесь черт те какой — средневековье! Прыгай через столетия, Сергей Лыков!
Были лекции и библиотеки, книги и профессора, микроскопы и цветные таблицы, таинства внутри зеленого листа, откровения из загадочной жизни микробов, гнездящихся у корней растений. Это все было, а ожидалось большее — опытный участок, научная станция, своя лаборатория с пробирками и микроскопом, грядки с табличками, извещающими, что на планете появляются неведомые людям сорта, ученая степень, почет… И был бы птицей свободного полета, ни с тебя выполнения плана, ни отчетов, ни проработок на совещаниях — твори!
Бригадир в Петраковской! Бригадир в самой безнадежной бригаде, ты заведомо — мальчик для битья.
Соседку Венькиной матери, Груни Ярцевой, звали Анной — Анна Филиппьевна Кошкарева. Дети ее: погодки — Петька и Ленка, один восьми, другая семи лет, погодки — Сенька и Васька — пяти и четырех — да еще люлечный Юрка, тот, что тогда плакал с надрывом в избе.
Каждый год еще до рождества Анна начинала печь своим детишкам лепешки из травы и куглины. Траву — щавель, крапиву и еще одну, называющуюся почему-то неприличным словом, — детишки сами заготовляли летом, сушили, а зимой перетирали в труху. Лепешки напоминали по цвету, по виду, свежие лепехи коровьего навоза — черные, с зеленым отливом, с резким запахом силоса и прели, с невыносимым пресным вкусом, которого никак не могла убить соль.
Щедрый Евлампий Лыков подарил хлеб — ешьте! Не мало хлеба, но и не так уж много, чтоб быть сытыми. Его можно съесть за несколько месяцев. Сергей сложил мешки с мукой в амбар, придирчиво проверил и крышу и стены — сухо ли, — закрыл на замок.
Хлеб на замок! Это значит — опять голод, это значит — лютая ненависть к тому, кто повернул ключ, положил его в карман.
Ненависть, а нужно, чтоб верили, больше — нужно, чтоб любили. Не красивые слова, не горячие обещания, а кусок хлеба может вызвать любовь, только он. Еще пока ели сорный хлебец со снятого осенью урожая, а уже глухая недоброжелательность к новому бригадиру растекалась по деревне.
— Пожарский опричничек.
— Хлебец-то для показу с председателем привез.
— А вы что, бабы, пожировать хотели?
— Облизнись да забудь.
И надо было решаться, надо было идти навстречу глухой затаенной ненависти. Никогда в жизни Сергей так не рисковал, пожалуй, даже в войну, где случалось натыкаться в небе одному на трех «мессеров».
Бывшее правление колхоза, ныне бригадный дом — не пожарская контора с колоннами и широким крыльцом, — обычная изба, ветхая и громадная, каких много пустовало в Петраковской. Собрались все жители разбросанной деревни, воздух сперт, трудно дышать — платки, платки, полушалки, кой-где лохматая стариковская шапка. Большинство населения — бабы, у многих дети, все просят есть, а хлеб под замком.
Сергей открыл собрание. Ждали, как всегда, речугу, но вместо речи бригадир вынул из кармана ключ, положил его на стол.
— Вот он… От хлеба.
Тишина, посапывание, поскрипывание. Из полутьмы просторной комнаты уставились с враждебной недоверчивостью глаза, много глаз, бабьих, изболевшихся, материнских.
























