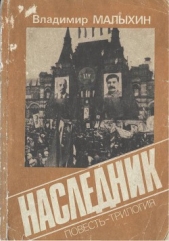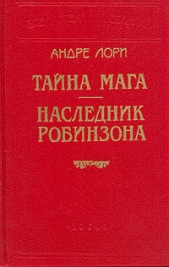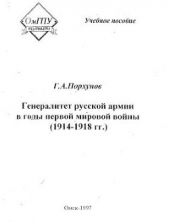Наследник

Наследник читать книгу онлайн
К началу Первой мировой войны Лев Славин успел окончить гимназию, но курс обучения в университете оборвала мобилизация в действующую армию, в которую он был призван в качестве вольноопределяющегося. После окончания боевых действий был демобилизован в чине помощника командира роты по строевой части. В 1918 году вступил в ряды Красной Армии. Именно эти события и были положены в основу романа «Наследник», где главный герой после долгих идейных исканий приходит в лагерь революции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
9
Жаль, что нет дождя. Надо, чтобы шел дождь, чтобы я лежал в луже и колеса экипажей окатывали меня жирной грязью, а сверху хлестало бы. Вот штанины и ноздри наливаются холодной водой, между ногами образуется широкая запруда, пристань окурков, плевков, мертвых листьев, я слышу под щекой адское кипение канализационных труб, кто-то бежит за городовым, за «скорой помощью», и прохожие с гадливостью осматривают меня, толпясь и не подозревая, что я умираю от тоски и ярости.
Но нет дождя. Звезды. Успокоительная чернота сентябрьской ночи. Издалека, с бала, – музыка, глухой топот барабана. Я поднимаюсь и стряхиваю пыль с колен.
Ненужность этого движения поражает меня. Ведь я иду умирать!
А может быть, она наврала про свое замужество? Я сжимаю себе руки и умоляю вспомнить, что она была бедной, на собрании у Мартыновского она была в рваных башмаках, а сегодня на балу она в шелку. Третьяков дает ей деньги. Богатый жених. Я плачу. Я люблю свои слезы, потому что Катя сказала когда-то, что она отдаст все за мои слезы. Катя, сияние свежести! Она ездит верхом, у нее подкованные сапожки, бронзовые подковки на сапожках. Я не могу без волнения читать любовные места в книгах, даже «Бедную Лизу» Карамзина. Как я опустился из-за любви! Вот каким бывает настоящее несчастье – не то, что я разорвал с Гуревичем, и не то, что я разорвал с Кипарисовым, а то, что я разорвал с Катей!
Я озираюсь. Кой-где светятся окна. У перекрестков дремлют извозчики. Тишина. Пустынно. Только шаги мои да тень моя плетутся за мной, как собаки, чующие смерть хозяина.
На гастрономическом магазине читаю надпись: «Внимание! Прибыла свежая партия нежинских огурцов. Постоянным г.г. покупателям скидка». Как посмотришь кругом – сколько ласки в обращении людей друг с другом! Но это уже не для меня. Никогда больше не получать мне скидки в магазинах, не брать справок в адресных столах, не находить серебряных брелоков в коробках с гильзами, не получать журналов с чудесными приложениями. Я ухожу из жизни.
Мне становится понятным, что я сделаю это сегодня ночью в городском саду. Время и место уже определены подсознательной работой мозга. Принимаю. Но способ? Застрелиться?
Мой отец – по тайным, дошедшим до меня слухам – застрелился. Будто бы на балу, в присутствии множества гостей. Может быть, у нас в роду наследственная мания самоубийства? Это интересный вопрос. Решаю исследовать его в ближайшие же дни. Господи, что я за дурак! Какие «ближайшие дни»? Ведь я сейчас умираю!
Я расстроен своей забывчивостью. Уж не значит ли это, что я несерьезно отношусь к своей беде? Что я не верю в свою смерть? И тут же я ловлю себя на странных вещах. Оказывается, что в то время, когда всего меня целиком, казалось бы, занимает главная, генеральная мысль о самоубийстве, по боковым ходам мозга снуют десятки подспорных мыслишек – о том, что не забыть бы завтра взять деньги у дедушки, и правда ли, что из-за бессонных ночей можно облысеть, и что не бутылкой мне надо было замахиваться на Гуревича, а бить его в челюсть прямым кроше!
Я их сгребаю в охапку, эти мысли, я их вышвыриваю горстями из головы, из всего тела. Я обнаруживаю, что во мне самом думаю не только я, но спина моя, ежась под взмокшей рубахой, самостоятельно тоскует по свежести крахмальных простынь, ноги мои, передвигая меня к городскому саду, заняты в то же время отдельными от меня заботами, причем левая, по обыкновению, пришаркивает подошвой с оттенком дурного фатовства, а правая, как корабельная грудь, режется вперед, и возможно, что они переругиваются насчет моды на высокие каблуки. Я извлекаю из кармана руку и с интересом разглядываю ее: она шевелится, как зверь, пальцы вытягиваются в ночь, быть может, они мечтают о кольцах, о маникюре, о ковырянье в носу, – черт его знает, о чем могут мечтать пальцы!
– Успокойтесь, – говорю я, обращаясь к собранию моего тела, – я не допущу не только бунта, но даже простого ворчанья. Вы все будете делать то, что буду делать я.
Застрелиться нельзя. Просто потому, что нет револьвера. Можно отравиться. Опиум. Нашатырный спирт. Карболка.
Передо мной решетки городского сада. Угадываю в темноте ползучий виноград. Скамейки. Сейчас под ногами зашуршит гравий. Пора решать. Нет, не буду травиться! Противно – это похоже на химический опыт. И потом – все равно не достать мне яду. Не так легко, оказывается, убить себя! Я вздрагиваю. Я поймал себя на том, что мне хочется спросить совета у Кати. Я понимаю: это действует старая привычка – в затруднениях искать помощи у Кати. Старые привычки продолжают действовать, как часы, забытые в кармане покойника.
Я бросаюсь на скамью, мокрую от росы. Хорошо! Если я не могу застрелиться и не могу отравиться, я повешусь. На подтяжках. Вот я пишу записку. На листе из записной книжки я пишу: «Отец мой, я иду к тебе!» Интересно, какой вышла эта строчка в темноте: ровной ли, а если косой, то вверх или вниз? Ну что за ерунда, я опять отвлекаюсь!
Дерево как раз надо мной. Найдется крепкая ветка. Вся публика с бала утром пойдет через городской сад. Гуревич. Третьяков. Рувим Пик. Золотая молодежь. Я буду качаться. На моих щеках будет медленно проступать борода. Иоланта заплачет и скажет: «Любовь дает себя знать». Гуревич заставит себя сострить. «Ну конечно, – скажет он, – Сережа всегда отличался юмором висельника». Золотая молодежь будет поражена. Как я робел на балу! Заметили они это? Заметили они робость, воображение, заносчивость, подмигиванья? Я вспоминаю все обилие и всю тонкость своих чувств, и это льстит мне. Но тут же я пожимаю плечами: тоже чувства! У других – большие, настоящие страсти: ревность, азарт, фанатизм, стяжательство. Лицемер Тартюф, скупец Гарпагон, честолюбец Гуревич, мститель Макдуф, а у меня – пустяки, мелочь. Всю жизнь я возился с третьесортными страстями, никогда не поднимаясь до сластолюбия, даже до вероломства. Но что это, я опять отвлекся? К делу! К смерти!
Я вскакиваю на скамейку. Да, ветка выдержит. Много раз я составлял план исправления неисправностей жизни и всякий раз успокаивался и не исправлял. Вот теперь все будет исправлено как следует.
Но неужели я по-настоящему задохнусь? Невероятно, чтобы петля в одну секунду могла уничтожить мысли, желания, уменье делать стойку на одной руке, любовь к Стендалю. Но я понимаю – это не верит кровь, – это возмущаются восемнадцать лет, молодость! Я чувствую себя одновременно убийцей и жертвой. Но я опять отвлекаюсь! Скорее! В петлю!