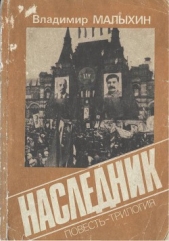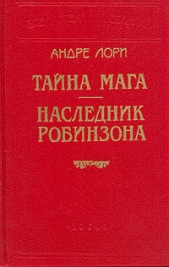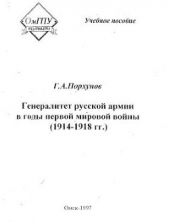Наследник

Наследник читать книгу онлайн
К началу Первой мировой войны Лев Славин успел окончить гимназию, но курс обучения в университете оборвала мобилизация в действующую армию, в которую он был призван в качестве вольноопределяющегося. После окончания боевых действий был демобилизован в чине помощника командира роты по строевой части. В 1918 году вступил в ряды Красной Армии. Именно эти события и были положены в основу романа «Наследник», где главный герой после долгих идейных исканий приходит в лагерь революции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да, Гуревич ничего не знал. Увидев его в тот же вечер, я промолчал. Это был вечер, когда он познакомил меня с Тамарой. Я ничего не мог скрывать от Кати и пошел к ней, чтобы все рассказать. Я чувствовал себя предателем, втройне преступником – против себя, против Кати и против Тамары. Единственное, что меня могло очистить, – это Катино прощение.
Я бежал к ней с радостью, слегка вздрагивая, как бегут на рассвете с полотенцем к речке. Но вдруг, увидев ее, я смутился и напустил на себя какой-то дурацкий тон. Я напустил на себя тон профессионального бретера, кутилы, я не мог отстать от этого тона, несмотря на все усилия, и закончил рассказ эффектным жестом старого гуляки и небрежно развалился в кресле, чувствуя, что я невыносимо глуп. Катя подумала и сказала: «Уходите и больше никогда не приходите». Я сейчас же ушел.
Я несколько раз потом подходил к ее дверям, но не смел войти. Потом перестал, совсем не думал о ней, только – по утрам, просыпаясь, в те странные пять минут, когда человек ничего не может поделать со своими мыслями и страх, сожаление, нежность проступают на щеках теплыми пятнами меж спутанных волос. Потом я быстро забывал Катю в замечательной суете дня.
Почему же сейчас я сную по этому шумному залу, пристаю к незнакомым с вопросами:
– Скажите, вы не видели девушки в черном платье, лет восемнадцати, загорелая, большие серые глаза?
– Простите, здесь столько народу, не заметишь, – отвечают одни.
Другие:
– Вышла замуж за старшего дворника и уехала в Антарктику.
– Остроты? – рычу я. – Берегитесь! Я вас отучу острить!
Бал пьянел, пошел второй час ночи, бал распался на несколько балов, танцоры презирали нетанцующих, молодежь, играющая в фанты, делала вид, что не замечает сделок старичков с проститутками, сидевшими вдоль стен. Одни только пьяные пересекали все круги, встречаемые сочувственными улыбками, как артисты, добившиеся наконец всеобщего признания.
Я увидел Катю издали. Она сидит за столиком и прилежно грызет утиное крылышко. Рядом – офицер. Это поручик Третьяков. Он сосредоточенно разговаривает с официантом. Катя принимает участие в разговоре только бровями, шевелением тонких бровей, то протестуя, то удивляясь, то хмурясь и с явным намерением заговорить, но ей жаль оторваться от крылышка.
Вдруг Катя замечает меня. Она, бледнея и улыбаясь, откладывает недогрызанную косточку и вытирает замасленные пальчики салфеткой.
– Вот так штука! – говорит она. – Сто лет я вас не видела. Только что пришли?
– С самого начала, – говорю я, кланяясь.
И тотчас соображаю: «Сто лет – это значит между нами ничего не было: ни поцелуев в оркестре, ни слез моих. Приказание забыть. Вычеркнуть».
– Вы не знакомы? – говорит Катя. – Поручик Третьяков. Сережа Иванов.
Поручик кланяется мне с пристойной учтивостью. И снова, оборотись к официанту:
– Бить вас по морде, сукиных сынов, за это надо! Молчать! Холуй! Выгоню!
– Пойдемте, – говорит мне Катя, – пойдемте походим. Третьяков благосклонно ей кивает, как бы говоря:
«Ты, милая, погуляй, а у меня здесь дела», – и опять поворачивается к официанту.
Говорю:
– Поручик любит пошуметь.
Катя:
– Он горячий человек. Вам это трудно понять?
– Ничего подобного! – кричу я запальчиво. – Просто он из таких людей, которые вечно скандалят с лакеями, с извозчиками, с дворниками. Потому что они не смеют ему ответить. Я бы ему ответил!
– Довольно, – говорит Катя, – мне неприятно, когда о Третьякове говорят плохо. Расскажите лучше о себе.
Я подозрительно покосился на Катю. О себе? Это намек: «Ты ничего не можешь о себе рассказать такого, что бы делало тебя интересней Третьякова. Ты – ничтожество».
Я парирую:
– Я не люблю говорить о себе. Я люблю говорить о других.
Это должно означать: «Ты можешь думать обо мне что угодно; люди знают мне цену». Я смотрю на Катю сбоку: поняла ли она?
Тоненьким голоском Катя соглашается:
– Ну хорошо. Встречаете ли вы вашу знакомую Тамару?
Понимаю: «Не смей думать обо мне, я для тебя не существую». И не надо!
Я:
– Да, я с ней в последнее время очень подружился.
Катя покраснела. Она смотрит на меня умоляющими глазами. Можно было бы подумать, что она о чем-то умоляет меня, если б я не был уверен, что она хочет меня высмеять.
– А я? – говорит Катя тихо. – А меня вы забыли, Сережа?
Я смущен. Что это должно означать? Я теряюсь. Я устал от этого тройного разговора, где я должен помнить, что я говорю на самом деле, что я хочу сказать и что Катя думает о том, что я говорю.
– Вас зовут, – говорит Катя, вздыхая. Я оглядываюсь.
Тонкая рука, затянутая в белую перчатку, манит меня. Виолончель, контрабас, скрипка и альт стоят в открытых футлярах вокруг столика.
– Это Тамара, – бормочу я и нехотя подхожу к столику.
– Ах, какая интересная девушка с вами! Познакомьте! – громко говорит Тамара.
Катя протягивает руку. Тамара подвигает ей стул. Наташа, Маргарита, Иоланта и Вероника улыбнулись.
– Усталость дает себя знать, – говорит Иоланта и делает голубые глаза.
Наташа заискивающе хохочет.
– Вы самая хорошенькая на балу, – говорит Тамара, разглядывая Катю.
– Все старые одесские коровы притопали на бал, – со злостью говорит Вероника.
Маргарита вытаскивает портсигар из пиджака Завьялова и угощает Катю. Завьялов, Беспрозванный и оба Клячко, на секунду выпадая из дремоты, кланяются Кате.
Меня ужасает соседство Кати с этими женщинами. Я тихонько тяну ее за руку. Она взглядывает на меня. Я делаю ей знак глазами: «Уйдем…» Катя упрямо поджимает губы и опускается на стул.
Ах, вот как! В таком случае я умываю руки. Я знаю, сейчас ее обдадут грязью с головы до ног. Что ж, она сама захотела этого… Не пройдет и минуты, как она со стыдом убежит, оскорбленная цинизмом этих женщин. Ничего, ничего, пусть учится жизни! Я тоже опускаюсь на стул и натянуто улыбаюсь, силясь вообразить себя старым скептиком, познавшим жизнь до дна. Однако, к моему удивлению, между женщинами завязался оживленный разговор в самом дружелюбном тоне.
– Муслиновый воротничок подметывается отдельно, – горячо говорит Тамара.