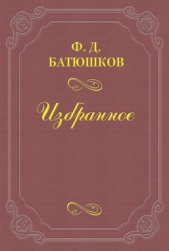Записки Анания Жмуркина
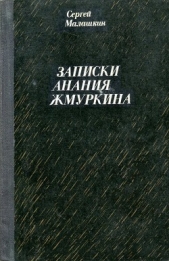
Записки Анания Жмуркина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да что, Фекла, и говорить! Будешь днем и ночью искать и не найдешь! — поддержали сочувственно женщины Феклу и призадумались.
Влас окончательно запьянел, расплакался. Матрена и его жена бросились утешать его.
— А ты, мужик, не плачь: не наши одни, а все идут, и все живы, да еще деньги за них гребут, да еще какие. А убитых из нашей деревни почти никого нет, только Артемка рябой, супруг Феклы, да еще двое; да, говорят, один без вести пропал. Но по рябому Артемке кто будет, кроме Феклы, плакать и убиваться: его на деревне у нас никто и за мужика-то не считал и не считает, а все говорят: туда ему и дорога, непутевому. Да и убит вправду ли он? Это тоже вопрос! Даже урядник, на что человек хороший и начальство серьезное, и то надысь подъезжал к его избе, выкликнул солдатку и говорит ей: «А твой рябой-то в плен сбежал, а поэтому мы тебе денег платить не будем». А она, бедная, как пустится в голос — да в ноги уряднику. «Я, говорит, ваше благородие, и жить только стала с детишками на эти деньги, только-только, говорит, свет в окошке увидела, а вы меня с сиротами лишить пособия хотите. Не берите, говорит, на себя этого греха, а мужик, говорит, мой обязательно окажется».
— Брешешь ты, Матрена! — крикнула Фекла. — Ничего я такого не говорила уряднику! Мне муж нужен, а не деньги! Я не такая кочерга жадная, как ты!
— Как ты, несчастная и зловредная, смеешь так разговаривать со много! Ух ты, нищета коростовая…
Наступила неприятная тишина; в ней остро воняло самогоном и жареной свининой, мухами, густо звеневшими над столом и под потолком.
— Да что, бабоньки, и говорить-то, теперича солдаткам житье, — нарушила ехидно молчание пожилая женщина из-за спин стоявших перед нею. — Раньше-то, бывало, они, бедные, полушки медной от мужей не увидят, а теперича десятками гребут, а то и больше, — пояснила она с еще большим ехидством и шагнула вперед, шаря прищуренными глазами хозяина. — Влас Тимофеевич, попотчуй первачом, ежели не жалко!
Влас пропустил мимо ушей слова пожилой женщины, а может, будучи сильно во хмелю, и не слыхал ее просьбы.
Что они еще говорили, я хорошо не помню, так как у меня сильно захмелела голова и я еле выбрался из-за стола; Евстигней и Лаврентий, положив головы на стол и растрепав лохмы волос, что есть мочи заорали разными голосами:
Евстигней лежал рядом со мной в телеге; проснувшись, он повернул лицо ко мне и, выбирая веточки сена из усов, пробормотал:
— Не то снилось, не то наяву: кружилась надо мной большая черная птица и гортанным криком будила меня:
«Крр-ы! Крр-ы! Крр-ы!»
А я:
«Шшш! Шшш!»
А когда открыл глаза: никакой не было черной птицы, — висело надо мной осиновое небо, а в небе это, Ананий Андреевич, на самой-то середине, как раз на самом солнце, черное облако стоит и рычит:
«Ууу! Ууу!»
А я лежу кверху лицом и никак сообразить не могу: где я, непутевый, нахожусь? А облако все висит и рычит надо мной:
«Уууу! Ррр!»
Я думаю: вот-вот сейчас прольется.
«Дождик пойдет», — буркнула Матрена и взмахнула кнутом. Кнут, как почудилось мне, опоясал небо и оставил на синем его полотне черную полосу.
«Это жена», — подумал я и повернул голову: действительно, ко мне спиной сидела Матрена.
«Эй ты!» — крикнула она и огрела лошадь кнутом.
Мерин взмахнул головой и одновременно хвостом, фыркнул и трухнул рысью, отчего меня жестоко затрясло в телеге.
«Не проспался еще», — сказала жена и еще раз хлестнула лошадь.
Мерин побежал мелкой рысью, но пробежал немного и снова остановился и пошел гораздо тише. Я ничего не ответил, повернулся кверху спиной и уткнул голову в сено. Впереди играла двухрядка не то «страдание», не то «ихохошки», а ей подтягивал женский хриповатый и разбитый самогоном голосок:
А позади кто-то ехавший за нами выводил хриплым басом:
— Так мы, Ананий Андреевич, доехали до уездного города, так в городе и ночевали под открытым небом, в телеге, на Соборной площади, около самой церкви святого Покрова. Народу вокруг нашей подводы ночевало очень много, и весь он спал в телегах. Вот только не помню, Ананий Андреевич, когда вы заявились к нам и завалились поспать подле меня? — спросил удивленно Евстигней и зорко поглядел на меня опухшими от самогона и длительного сна глазами.
— Я приехал в город с Иваном Пановым и его женой. Тележка у них крошечная: ему и его жене тесновато в ней, вот я в потемках наткнулся на вашу. Вижу, лежите вы один, а Матрена Исаевна сидит на мешке с овсом и дремлет. Я влез в телегу и заснул подле вас. Не сердитесь на это?
— Что вы, Ананий Андреевич… Я очень рад.
Мы замолчали.
Около церкви Покрова не одна уже играла двухрядка — несколько гармошек беспокоили утро, а также и не два голоса, несколько.
Недалеко от телеги Евстигнея был большой круг мужиков, стоял долго спор о войне, о проклятом немце, которого во что бы то ни стало надо покорить и освободить православную землю от его поганых ног. Спорили долго, шумно, визгливо, с азартом. Доказывали, что война нынче осенью обязательно закончится, так как сам царь пошел на войну и все русское воинство повел в бой, а сам пошел впереди всех и безо всякого оружия, с одним только единственным скипетром. А еще кто-то утверждал, что будто бы впереди русского войска идет святой великомученик Иван Воин с Михаилом Архангелом и оба мечами огненными путь для русской армии расчищают. Спор тянулся до самого позднего утра и только перед обедом успокоился, затих, и люди развязали мешочки и корзинки с провизией и начали закусывать.
Я слез с телеги, хотел было умыться из кувшина, но смотрю, недалеко от меня, между телег и лошадей, протопоп пробирается, из медной растительности бороды большими черными глазами ощупывает подводы и пространства между ними, черную, сверкающую от солнца серебром рясу придерживает, улыбается в бороду. А когда он поравнялся с телегой Евстигнея, Евстигней соскочил с нее и, отстранив меня с пути, подошел к нему и попросил благословения.
— Батя, — сказал он хриплым голосом с перепоя и дыхнул ему в лицо перегаром, — благословите! — и сделал ладони совочком и наклонил голову.
— Во имя отца и сына… Желаю тебе побить супостата… — и сунул ему для поцелуя жирную руку.
— А мне, батя, желательно остаться.
Протопоп быстро отдернул руку, вытер ее об рясу и взглянул на него злыми глазами:
— Ты что, чадо?
— Остаться желаю, — ответил твердо Евстигней.
— Это как? — вонзил он в него глаза.
— А так, — проговорил Евстигней, — не по душе мне война и не по евангелию.
Протопоп осмотрел презрительно его высокую фигуру, нахмурился, потом ехидно ухмыльнулся в бороду.
— По всему видно, что ты скверный мужичишка и не достоин благословения. — И пошел от Евстигнея в сторону. — Ты его жена будешь? — обратился он на ходу к Матрене.
— Жена буду, батюшка, — вздохнула Матрена и дернулась к нему.
— Пропащий у тебя, бабочка, мужик, как есть пропащий. Не даст господь милости, не даст.
Матрена всплакнула, луковица ее носа на длинном лице густо покраснела, из глаз поползли слезы.
— Я ему, батюшка, и то говорю: все служат, милость получают, и господь не без милости.
— Правильно, бабочка, правильно говоришь, — похвалил он и тихой утиной походкой пошел через площадь.