Пир в Одессе после холеры
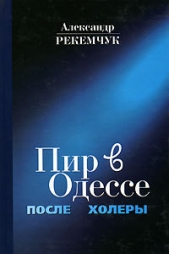
Пир в Одессе после холеры читать книгу онлайн
Введите сюда краткую аннотацию
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Негр возвращался из туалета, вероятно ходил покурить. Любопытно, он из Америки? Или прямо из Африки? Какой красавец, а уж костюм, очки...
Мы опять уткнулись в раскрытые томики Уилсона и Пушкина.
Когда Павлику исполнилось три года, его отец, мой сын Андрей поделился своими заботами:
— Понимаешь, батя, ребенок растет, ему обязательно нужен идол, нужна личность и ее культ. Для вас это был Сталин. Нам выдали Ленина. Мы про них знали не меньше вашего, но делали вид, что приемлем, потому что тоже понимали — идол нужен... А что же теперь? Чье имя я назову сыну? Вся эта нынешняя срань — язык не повернется... И я решил: пусть это будет Пушкин. Как ты считаешь?
Я счел это правильным.
Через год соответствующего воспитания мальчик взял брусок пластилина и вылепил Пушкина: все точно, бакенбарды, кудри. Пушкин у него лежал на смертном одре. Его убили, пояснил ваятель.
Мы были смущены.
Но потом пришло на ум: ведь и самое распространенное изображение Христа — распятие.
— Дед, — сказал Павлик, задумчиво листая страницы «Города чумы». — Значит, ты считаешь, что это про дядю? Я имею в виду Василия Львовича.
— Да, конечно, — подтвердил я. — Вероятно, в тот раз Пушкин прочел эту книгу именно так. Будто она про дядю. И про Натали — ведь она была в Москве, в холере. И про себя самого — ведь он всё предчувствовал. Вспомни: «...я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадою и большой неохотой». Понимаешь? Но не только... Он написал это про всех: и про моего отца, и про твоего, упокой, Господи, их страждущие души... Про всех про нас, несчастных.
Однако пора было вернуться к раритету.
— Что там дальше?
— Хор.
— Какой хор? У Пушкина нету никакого хора.
— А тут есть. Но я не врубаюсь: то ли это староанглийский, то ли вообще какая-то бодяга... Послушай:
Естественно, я тоже не врубаюсь. Но я улавливаю ритм — я знаю его наизусть, этот гимн, который у Пушкина поет Вальсингам, Председатель, президент попойки — гимн в честь чумы:
Тысячи страниц посвящены этим бессмертным стихам.
Но, кажется, никто не сказал о них лучше, чем Андрей Донатович Синявский в своих «Прогулках с Пушкиным» (да-да, я знаю, что их автором является Абрам Терц, «Абрашка Терц, карманник всем известный», было бы странно забыть об этом в повести, посвященной Одессе):
«Пир во время чумы! — так вот пушкинская формулировка жизни, приготовленной в лучшем виде и увенчанной ее предсмертным цветением — поэзией. Ни одно произведение Пушкина не источает столько искусства, как эта крохотная мистерия, посвященная другому предмету, но, кажется, сотканная из флюида чистой художественности. Именно здесь, восседая на самом краю зачумленнои ямы, поэт преисполнен высших потенции в полете фантазии, бросающейся от безумия к озарению. Ибо образ жизни в «Пире» экстатичен, вакханалия — вдохновенна. В преддверии уничтожения все силы инстинкта существования произвели этот подъем, ознаменованный творческой акцией, близкой молитвенному излитию».
Дневник свой я веду нерадиво, от случая к случаю. Записи конспективны, куцы, лишены деталей и эмоциональной окраски. Но порой именно в этих записях отыщется то, что кстати.
Датировано 1990-м годом:
«5-го июня состоялась встреча с приехавшими в Москву Андреем Донатовичем Синявским и его женой, редактором «Синтаксиса» Марией Васильевной Розановой. Были Юнна Морйц, Галина Белая, Иосиф Герасимов, Валентин Оскоцкий и др. За обедом Синявский и Розанова отчаянно ругали Солженицына, ругали «Апрель» за проведение «Солженицынских чтений». Договорились об издании четырех альманахов «Синтаксис», а также «Прогулок с Пушкиным» и «В тени Гоголя»».
Этим планам не суждено было осуществиться.
В памяти тоже не осталось ни деталей, ни фраз того темпераментного разговора на веранде Центрального дома литераторов.
Но я помню глаза Синявского: влажные, светлоголубые (один глаз скошен, как у Натали), устремленные бог весть в какие выси и какие дали... Что видел там его просветленный взгляд?
Взгляд Марии Васильевны был жестче и скептичней.
С ветерком
Наша говорильня приближалась к концу. В субботу Ласси Нумми снова пригласил меня на тет-а-тет. Разговор опять шел через переводчика и, может быть, в натуре его речь была несколько иной, но я воспроизвожу ее так, как она звучала в переводе.
— Мы знаем, — сказал Ласси Нумми, — что завтра в Одессе состоится воскресник. Жители выйдут на улицы с лопатами и метлами, чтобы убрать все следы холерной эпидемии и карантина. Мы, финские писатели, хотим присоединиться к ним, поработать вместе с одесситами, чтобы вернуть былой блеск прекрасному городу. Пусть нам выделят участок уборки и выдадут метлы!
Было трудно не оценить этот благородный порыв и то уважение, с которым зарубежные гости отнеслись к советским обычаям: субботник, воскресник...
Но у меня в руках был расписанный по дням и по часам распорядок работы симпозиума, который надлежало выполнять неукоснительно.
— Завтра мы едем в Овидиопольский район, в колхоз имени Дзержинского, — напомнил я коллеге. — Это есть в вашем расписании?
— Да, конечно. Но нам бы хотелось... — продолжал занудствовать Ласси Нумми.
В моей голове мелькнуло предположение, что финны просто устали от щирого радушия хозяев: ведь мы уже пировали и в ресторане гостиницы, и на борту теплохода «Тарас Шевченко», где в нашу честь давало ужин начальство Черноморского пароходства, и было нетрудно догадаться, что в украинском колхозе нас тоже попотчуют знатно.
— Дорогой Ласси, — сказал я, доверительно взявшись за пуговицу его пиджака, — вы, наши ближайшие соседи и друзья, хорошо осведомлены о том, что в Советском Союзе иногда ощущается дефицит самых необходимых вещей: то за холодильниками очередь, то за телевизорами, то просто за туалетной бумагой... На сей раз в дефиците метлы. Всё разобрано. Нам не досталось. Ну, нет метелок!.. Придется ехать в колхоз.
Ласси Нумми рассмеялся и махнул рукой.
Наутро мы мчались автобусом к Овидиополю.
Из окошка видна была всхолмленная равнина, покрытая зарыжелой осенней травой. Тянулись к окоему поля, с которых давно уже был снят урожай, и теперь оставалось лишь угадывать, что вот тут, где кустится колючая стерня, колыхалась на ветру пшеничная нива, а здесь, где раскоряченными пугалами торчат обломанные стебли, была кукурузная плантация, а еще дальше — баштан, впрочем, он и сейчас не совсем пуст: лежат в пыльной пороше тыквы, розовые и желтые, такие огромные, что их, может быть, не смогли не то, что увезти, но даже поднять, и они остались здесь, на бахче, памятниками могучему плодородию земли.
То и дело попадались навстречу буковые рощи, похожие на коровьи стада, уже объевшие всю траву окрест, да больше и не нужно — сыта скотина, сбилась плотно, рога в рога, помыкивает, дожидаясь дойки.
Пирамидальные тополя, рядами стоявшие вдоль дороги, на скорости смотрелись многоствольной флейтой Пана, мускалом, на котором в Бессарабии играют протяжные дойны.
Наш автобус несся, не вздрагивая, по бетонке.
























