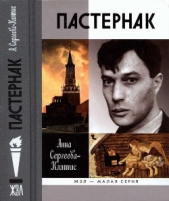Гамлет Бориса Пастернака

Гамлет Бориса Пастернака читать книгу онлайн
Гамлет у Бориса Пастернака. - «Обозрение», 15. Paris, 1985. (Международный симпозиум «Борис Пастернак и его время». The Hebrew University of Jerusalem, 1984). Опубликовано в: Витторио Страда, Россия как судьба - Москва: Три квадрата, 2013, С. 161-169.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Annotation
Гамлет у Бориса Пастернака. - «Обозрение», 15. Paris, 1985. (Международный симпозиум «Борис Пастернак и его время». The Hebrew University of Jerusalem, 1984).
Опубликовано в: Витторио Страда, Россия как судьба - Москва: Три квадрата, 2013, С. 161-169.
Примечания
Note1
Note2
Note3
В РАЗНЫЕ ГОДЫ одного исторического периода были написаны два русских романа, с наибольшей четкостью и насыщенностью воплотившие нравственно-исторический опыт революции, которая, распростившись с первоначальными иллюзиями, переживала процесс самопроверки. Это – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Их появление ознаменовало начало новой фазы русской литературы советского периода: бесповоротное вырождение планируемой властью литературной деятельности, именуемой «социалистическим реализмом» (самоубийство Александра Фадеева, самого искреннего его поборника, как бы символически подводит итог целой эпохе), и возрождение живой творческой связи с великой и свободной дореволюционной русской литературой.
«Двойная мифоструктура»
РОМАНЫ Булгакова и Пастернака представляют собой новое слово – и формально, и по существу – также и по сравнению с литературой двадцатых годов. Их новизна, в частности, состоит в освобождении от комплекса неполноценности перед революцией, который как бы сковывал даже лучших писателей первого пореволюционного десятилетия; впрочем, тогда революция поворачивалась к ним своими привлекательными сторонами, оставляя некоторую долю независимости тем, кто видел свой долг в сотрудничестве с ней.
Для «Доктора Живаго» и «Мастера и Маргариты» характерна существенная общность, проявляющаяся в глубинных пластах повествовательной структуры, а именно: присутствие сверхъестественного и вторжение потустороннего, беспрецедентное в великой литературе нашего времени. Общим для обоих романов является не только то, что главный герой в них – художник (романист и поэт), но и то, что частью они написаны самими героями. У Булгакова часть романа, написанная Мастером, составляет половину всего текста; «Мастера и Маргариту» можно определить как «философско-исторический роман», построенный на евангельском мифе, обрамляемый другим романом, повествующим о жизни автора. В «Докторе Живаго» творчество главного героя представлено тетрадью стихов, сохраненной его друзьями и изданной приложением к роману, а также рассеяно в его собственных «романных» высказываниях. Качественно-жанровое соотношение здесь другое, но можно сказать, что перед нами – поэтический сборник, предисловием к которому служит биография его автора. В первом случае мы имеем дело с «романом в романе», во втором – с «собранием лирических стихотворений в романе», и в обоих случаях роман теряет свою монолитность, распадается надвое, причем обе части зеркально отражаются друг в друге, создавая два динамически сложных художественных организма.
Есть еще один элемент, объединяющий оба романа, который можно было бы определить как «двойную мифоструктуру»: глубинная мифическая структура представлена образом Христа, как явствует из «философско-исторического романа» в «Мастере и Маргарите», и поэтического собрания Юрия Живаго, да и вытекает из этих произведений в целом. На эту первичную архетипическую структуру накладывается, однако, вторичная литературно-мифическая структура, восходящая у Булгакова к «Фаусту» Гете (это видно из эпиграфа и самого названия), а у Пастернака – к «Гамлету», как ясно из первого стихотворения и самого образа героя. Задача исследователей – показать, как действует эта «двойная мифоструктура» в обоих романах, порождая две различные системы поэтических значений. Здесь, однако, мы оборвем нашу параллель между обоими произведениями, так как темой настоящих размышлений является лишь пастернаковский роман.
ПРЕЖДЕ чем перейти к анализу наложения образов Живаго, Христа и Гамлета, зададимся вопросом: нельзя ли выявить в русской литературе генеалогию этого ассоциативного пучка значений? Мы обнаружим, по крайней мере, двух типологических предшественников: это – Обломов и князь Мышкин, наделенные ярким духовным богатством, не находящим применения в жизни, и чертой, которую можно было бы определить как «благородство в поражении». Соотнесенность с Христом в Мышкине очевидна, гораздо менее очевидна его связь с Гамлетом, тогда как для Обломова справедливо обратное, и оба они связаны с образом Живаго.
Примерно в ту же эпоху было создано еще одно произведение, на котором необходимо остановиться в связи с романом Пастернака. Речь идет о лекции Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», прочитанной в 1860 году. Тургенев применяет типологическую дихотомию, отталкиваясь от противопоставления шекспировского и сервантесовского героев: в Дон Кихоте воплощена нерушимая вера в систему вечных надиндивидуальных ценностей, полнейшее подчинение им, вплоть до пожертвования ради них всеми личными интересами; Гамлет, наоборот, полностью погруженный в нескончаемый анализ, не способен разорвать магический круг саморефлексии и выразить себя в благородном поступке. Если Дон Кихот не знает, то Гамлет знает слишком много, и избыток сознания лишает его возможности высшего акта преданности – любви. Тургенев проницательно затрагивает самую суть вопроса, его типология устанавливает два архетипических характера романных героев. Правда, он создает два «идеальных типа», в действительности же «гамлетовское» и «донкихотское» начала в чистом виде никогда не встречаются, а представлены в бесконечных и разнообразных смешениях. Сам шекспировский Гамлет наделен донкихотской «центробежной» силой в свои университетские годы, когда, как ренессансный герой, он исполнен веры в гуманистические идеалы. А Дон Кихот, в свою очередь, не лишен «центростремительного» начала: он умирает не как Дон Кихот, а как Алонсо Добрый, в состоянии, так сказать, безмятежного «гамлетовского» разочарования. Если же истолковывать Дон Кихота как своего рода мирского Христа, а сервантесовский роман – как нечто вроде авантюрного Евангелия, то мы увидим, что «двойная мифосфуктура» живаговского Христа-Гамлета входит во взаимно дополняющую тургеневскую пару литературно-мифических образов Дон Кихота – Гамлета.
Эта система литературных отсылок представляется логичной, если интерпретировать образ Юрия Живаго на фоне таких литературных персонажей XIX века, как Обломов и князь Мышкин. Если же отказаться от общей перспективы и прочитать первое лирическое стихотворение Юрия Живаго «Гамлет», то станет ясно, что эта перспектива хоть и закончена, но недостаточна и что тут открывается новая перспектива, преобразующая первую. Она обращает нас к именам Александра Блока и Владимира Маяковского.
В первом стихе «Гамлета» фигура героя не дана непосредственно, то есть в одной из имеющихся его интерпретаций, но предстает опосредованно, в сценическом воплощении: Гамлет – это актер, играющий Гамлета, а театральные подмостки – это измерение, в котором действует шекспировский герой. Актер, выходящий на сцену и говорящий от первого лица, сразу выявляет неоднозначность и двойственность своей роли и функции: он и олицетворяет персонаж, и одновременно выступает в роли «ясновидца», улавливающего в шуме зрительного зала «что случится на (его) веку».
К роли Гамлета и функции ясновидца присовокупляется мотив религиозной миссии, благодаря наслоению слов Христа, произнесенных в Гефсиманском саду («Если только можешь, Авва Отче, / Чашу эту мимо пронеси»). Отождествление роли и миссии продолжено в третьем четверостишии, где проясняется еще один мотив стихотворения, а именно: мотив сопротивления этой роли-миссии и мотив amor fati, любовного приятия судьбы. Наконец, в финальной строфе возвращается Я, противопоставленное другим, но заостряется одиночество («я один») и враждебность окружения (характеризуемого на евангельский манер как «фарисейство»); преобладает чувство предопределенности судьбы («Но продуман распорядок действий») и ее неминуемости («И неотвратим конец пути»), а пословица последнего стиха, как итоговая сентенция, утверждает, что жизнь – это тернистый путь моральных испытаний («Жизнь прожить – не поле перейти»). Театральные подмостки расширились таким образом до Theatrum mundi, и на язык театра налагается язык Евангелия, а название стихотворения бросает отсвет шекспировской трагедии на актера, который, играя роль Гамлета и выполняя миссию пророка и спасителя, преодолевает момент сомнения в полном приятии своей судьбы. Это – судьба, принесенная в жертву и во спасение.