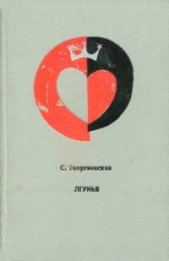Светлые города (Лирическая повесть)

Светлые города (Лирическая повесть) читать книгу онлайн
«СВЕТЛЫЕ ГОРОДА» — новая повесть С. Георгиевской. Как и большинство ее повестей («Бабушкино море», «Серебряное слово», «Тарасик», «Галина мама», «Жемчужный остров», «Отрочество» и др.)» она глубоко современна.
Петр Ильич Глаголев — архитектор, проектирующий города будущего.
И хотя повествование ведется от автора, книга по существу как бы единый, взволнованный монолог самого героя — монолог, в котором причудливо переплелись мысли о своем труде, мечты и чаяния архитектора Глаголева, его отцовская любовь, сожаления о прошлых ошибках и жажда счастья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это пройдет, Петр Ильич… Уезжайте. Дайте слово, что вы уедете. Ради меня.
— Хорошо, — сказал он шутливо. — Раз вы настаиваете, я поеду. В Пирита… С вами, Зина.
Ему хотелось в Пирита. Ему было нужно в Пирита… Почему?
Увидеть Мишеля — вот для чего.
Около ресторанчика, на знакомом Петру Ильичу пятачке, стояло множество такси. В такси дремали шоферы.
Навстречу приезжим летели музыка и смех, все это перемешивалось с шорохом моря и той особенной какой-то парадностью, торжественностью его, которая бывает у северных морей летом, когда они все еще светлы, несмотря на то что на дворе ночь.
Все столики оказались заняты. Остановившись у входа, Зина и Петр Ильич оглядывались, растерянные, будто бы окунувшиеся в другой мир после великолепной тишины церковной башни Олевисте.
Вот стол с двумя свободными стульями. За столом— мужчины. Перед каждым пивная кружка. Непривычное зрелище для глаза русского человека: компания холостяков.
Из глубины ресторанчика — старомодный вальс.
— Петр Ильич, потанцуем, а? — спросила Зина.
— С удовольствием. Но должен предупредить: я танцую плохо. Так и не научился.
Танцующих набилось так много, что они то и дело наступали друг другу на ноги. Трубач на эстраде заметил Петра Ильича и чуть наклонил голову. Молодое лицо его было спокойно и выражало полнейшее равновесие.
Короленко сказал, что счастье — это наивысшая степень душевного здоровья… Если так, то этот мальчишка, этот Мишель, этот Соколя, — счастливейший на земле человек.
— …Какой у вас усталый вид, Петр Ильич, — испугавшись, сказала Вирлас.
— Вы что-то спросили, Зина?.. Простите… Ах, да, действительно я не сплю. Сегодня по вашему совету завешу окна одеялами.
К их столику шел Лихтэн-Соколя.
— Вы искали меня, Петр Ильич?.. Вот адрес. Прошу. Буду рад… Я жду.
Ушел, положив перед Петром Ильичом клочок бумаги, исписанный узким почерком.
— Петр Ильич, что с вами? — спросила Зина.
Что? Как будто бы он знал!..
Конечная остановка автобуса.
Жара. Асфальт дороги плавится от яркого солнца.
…«Ну и что ж? Я гуляю, — говорит себе Петр Ильич. — Я гуляю, я люблю пригороды. Да, да. Люблю жару, тишину, одиночество… Кто может мне запретить гулять? Я свободен. Очень даже свободен. Слишком свободен. Никто меня не ждет.
…Я только спрошу его, спрошу».
О чем же?.. Будто ты не догадываешься, что это не дело отцов и матерей? Люди не терпят слишком пристального вглядывания, назойливого прикосновения к своей душе.
Забудь и сотри, как стирают резинкой. Чувствуй по совести и чести. Разве кто-нибудь виноват, что дочь единственный родной тебе на свете человек и что тебе страшно ее потерять?..
Отдавая тусклой синевой, стоят в лесу елки, тихие и неподвижные после ночного дождика.
Скинув пальто, Петр Ильич ложится на землю. Лежит и дремлет.
Что я сделал на этой земле? Что наработал?.. Какой оставлю после себя след?..
…Придет времечко, и ты примешь меня, земля, с моими тревогами, отцовской любовью…
Рядом с веревкой, на которой полощется по ветру давно просохшее белье, стоит дом. Неоштукатуренный, он собран из грубых лесин, с прокладкой из мха — единственный возможный здесь материал, отлично вписывающийся в неяркую зелень…
Петр Ильич подходит к дому, перекинув через руку пальто. Не дав себе времени заколебаться, он стучит в дверь.
В прихожей слышится шум воды. Что-то падает на пол.
— Простите, пожалуйста, Петр Ильич… Я… я сейчас.
…Как чисто. И до чего славно. Старый стол, два стула, три табуретки, кровать, похожая на походную, застланная грубым солдатским одеялом.
Накинув пиджачок и оправляя его на ходу, Мишель возвращается в комнату.
За ним, позевывая, бредет пес, ложится на пол у самого порога, вытянув вперед лапы. Лежит и дремлет.
— Не предложить ли вам чаю, Петр Ильич?.. Или, может быть, молочного супу?.. Вполне приличный суп.
— Нет, спасибо. Я уже вышел из детского возраста, не ем молочных супов, не ношу рейтуз…
И он поглядывает на музыканта мягко и не без доброго любопытства…
…Право, трогателен… И до чего юн!..
Красно загорелая шея, выступающая из воротника сорочки, кажется отроческой. На отроческий затылок ложатся давно не стриженные волосы…
Хозяин тянется к папиросе Петра Ильича.
— Разве вы курите?
— Нет. Не курю.
Пес у порога, поймав на ходу муху, потягивается и чавкает.
— Крупён обли! — коротко говорит Мишель (привык, должно быть, разговаривать вслух с собакой. Она смотрит на него настороженно, покорно, распластанно).
— Спички! — приказывает хозяин.
Собака встает и, протрусив в угол бархатной иноходью, приносит ему сапожную щетку.
— Пошло!.. Пошло и глупо, — сквозь зубы говорит ей хозяин. (И прижавшись животом к полу, она уползает. Ей худо. Она раздавлена стыдом.)
Мишель спохватывается:
— Простите, пожалуйста, и… и… прежде всего спасибо, конечно. Это первое, что я обязан сказать.
— Спасибо?.. За что?
— Ну за то хотя бы, что вы пришли! Я должен с вами поговорить… Рассказать о себе… Я этого давно хотел…
— А я этого от вас никогда не требовал.
— Да… Но мне самому было нужно…
Петр Ильич выражает взглядом, улыбкой и наклоном головы полнейшее внимание.
— Вика вам ничего обо мне не рассказывала?
— Не пришлось, признаться… А впрочем, да… Что вы живете в какой-то «сторожке». Один, с собакой.
— Да нет же!.. Я то имею в виду, отчего я… Ну, о моих родителях.
— Нет. Ни слова. Но, право же, это не имеет сейчас никакого значения. То есть в том смысле… Зачем ворошить то, что для вас… болезненно… Да?..
— Пусть. Но так будет понятнее, лучше. Видите ли… Одним словом, я постараюсь коротко. Мне было десять лет. Под Новый год я поехал на рынок за елкой. А когда вернулся — двери нашей квартиры кто-то заляпал сургучом. Они были заперты. Я заорал «мама» и принялся колотить в дверь… Вы можете легко догадаться, что мне не открыли… С тех пор мне больше не пришлось войти в родительский дом. Я больше не видел родителей.
Когда я еще жил с ними… Одним словом, я посещал музыкальную школу. Собирался в консерваторию. Я лишился отца и матери, когда больше всего нуждался в них…
Пока Мишель все это говорил, пока крошил папиросу, которую дал ему Петр Ильич, а потом потянулся за новой и опять прикурил; пока он вставал, садился, Петр Ильич глядел на него пристально, не решаясь вздохнуть, не решаясь его прервать.
Это было признание. Каким бы ни было признание человека, оно требует от слушателя полной растворенности в собеседнике.
Подождал. Понял, что музыкант не собирается говорить дальше. И позволил себе кашлянуть.
Что мог сказать Петр Ильич?.. Чем мог его утешить?
Встал и тихонько пошел к окну. Постучал о стекло костяшками пальцев…
За старым деревом, которое загораживало окно, шла тропинка… Деревья стояли тихие. Все вокруг дремало от солнца и жары. Кружилась муха, пела тоненьким комариным жужжанием, ударяясь о стекла. Не нашла дорогу на волю, примолкла. И вдруг запела над самым ухом Петра Ильича. Зелено вспыхнуло ее маленькое тельце.
Вокруг был мир с его ненарушимой гармонией, теплом и светом.
— Мишель… Я ведь не ошибся, вас, кажется, так зовут?
— О!.. Вы можете называть меня Мишей… Так меня называют русские… И она…
— «Она»? Ну, что ж… Так вот, когда я слышу такие рассказы, мальчик, я испытываю… как бы это сказать… неловкость и стыд оттого, что мне чудом каким-то не досталась горбушка от этого горького каравая. Возможно, я чувствую так вот именно потому, что теперь эта участь мне не грозит… В то время такие мысли, видимо, заглушались инстинктом самосохранения. Впрочем, лично я… Я, кажется, всегда был готов к тому, что это может со мною случиться не сегодня, так завтра. И поэтому я не слишком мучался, что до поры до времени уцелел, а люди, куда более ценные и достойные, — погибают. Но теперь, теперь, когда стало ясно — сколько судеб, сколько человеческих жизней…