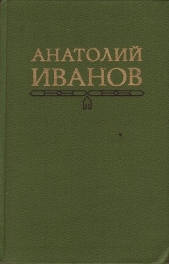Том 7. Публицистика. Сценарии

Том 7. Публицистика. Сценарии читать книгу онлайн
В седьмой том настоящего издания вошли публицистические работы А. С. Макаренко, его статьи о детской литературе и писательском труде, литературно-критические выступления, рецензии, киносценарии.
[В данном электронном варианте часть работ правлена по изданию Гётц Хиллиг. «Святой Макаренко». Марбург, 1984]
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он имел в виду дивизии, работавшие с правого фланга.
— Почему ты так уверен? — спрашивали его.
— А потому, что зацепиться ему, Колчаку, не за што — так и покатится в Сибирь.
— Да мы же вот зацепились под Самарой, — возражали Чапаеву. — А уж как бежали!
— Зацепились… ну так што?.. — соглашался он и не знал, как это понять. Мялся, подыскивал, но объяснить так и не смог. Ответил: — Ничего, што мы зацепились… а он все-таки не зацепится… Уфу возьмем».
Говоря о «Чапаеве», нельзя не сказать несколько слов о кинофильме «Чапаев» братьев Васильевых. Как раз в этом замечательном произведении дан настоящий Чапаев настоящего Фурманова, не отвлеченного схемой и скромностью. Авторы фильма смело восстановили Чапаева на коне, не испугались его занесенной шашки, потому что она занесена на врагов. В фильме Чапаев тоже не лишен «недостатков», но они не снижают его героический образ, а только оживляют его. И что особенно важно, Чапаев показан в более полной параллели с противником. Как раз у Фурманова врага почти не видно. В фильме белогвардейцы тоже не лишены героизма, не лишены и культуры, но они бедны духом, бедны верой, бедны как раз в той области, в которой так богат Чапаев. И поэтому в фильме так ясна гармония между высотой и героизмом личности и народным движением, поднявшим личность. Как раз этой гармонии не увидел Фурманов, хотя и изобразил ее в собственной книге.
Значение и книги, и фильма трудно переоценить. Никакая другая эпоха не оставила такого яркого художественного памятника, созданного участником и очевидцем. И предельная скромность и осторожность Фурманова только доказывают близость его к событиям, только вызывают неизмеримое доверие к автору.
И под защитой его осторожности мы не боимся признать легенду и с благодарной любовью всегда видим перед собой образ народного героя — Чапаева.
Счастье
Великая Октябрьская революция — это небывалые в истории сдвиги в жизни отдельных людей, в жизни нашей страны, в жизни всего мира. Невозможно перечислить те изменения, которые она принесла в историю человечества.
Но, как это ни странно, мы очень мало знаем о законах тех изменений, которые являются последней целью революции, итогом всех ее побед и достижений, мы мало говорим о человеческом счастье. Часто, правда, мы вспоминаем о нашем счастье, вспоминаем с волнением и благодарностью, но мы еще не привыкли говорить о нем с такой же точностью и определенностью, как о других победах революции.
Такое отношение к счастью нам исторически унаследовано. Испокон веков люди привыкли вести учет только бедственным явлениям жизни. Свои горести, болезни, падение, нищету, оскорбления и унижения, катастрофы и отчаяние люди давно научились подробно анализировать, до самых тонких деталей называть и определять. Это они умели делать и в жизни, умели делать и в литературе. Художественная литература прошлого, собственно говоря, и есть бухгалтерия человеческого горя. В то же время мы не можем назвать ни одной книги, в которой с такой же придирчивой добросовестностью, так же пристально, с таким же знанием дела разбиралось и показывалось человеческое счастье.
Некоторые писатели изредка упоминают о счастье, но всегда это самый простой и общедоступный его сорт — произведение матери природы — любовь. Для такого счастья теоретически достаточно иметь в наличии взаимную склонность двух существ. ничего сверх этого как будто не требуется.
Писатели имели склонность к изображению такого счастья, но они… не имели красок для этого. В этом деле ни один писатель не ушел дальше самого среднего успеха. Любовное счастье, его настоящее живое и длительное функционирование, счастье в собственном смысле, а не только надежды на счастье писатели изображали одинаково скучно и однообразно.
Писатели знали о своей беспомощности в изображении даже простого любовного счастья, но они не хотели и не могли демонстрировать такую беспомощность перед читателем. Поэтому самую лучезарную любовную радость они предпочитали смять новым набором бедствия, горя и препятствий, в изображении которых они всегда были мастерами. Самая патетическая история любви «Ромео и Джульетта» есть в то же время и самая бедственная история.
Нужно, впрочем, сказать, что читатели за это никогда не обижались, так как читатели тоже всегда предпочитали описание страданий. Одним словом, издавна человек всегда был специалистом именно по несчастью, по горестному событию и всегда любил такие произведения, где счастьем даже и не пахло. Самые милые для нас, самые близкие сердцу произведения художественной литературы стараются обходить счастье десятой дорогой или удовлетворяются констатацией пушкинского типа:
У Лермонтова, у Достоевского, у Гоголя, у Тургенева, у Гончарова, у Чехова так мало счастья и в строчках и между строчками. Очень редко оно приближается на пушкинскую дистанцию, но немедленно его легкий и волшебный образ уносится какой-нибудь жизненной бурей.
Почему это так? Почему вся прошлая художественная литература так не умеет, так не любит изображать счастье, т. е. то состояние человека, к которому он всегда естественно стремится и из-за которого, собственно говоря, живет?
Почему в номенклатуре художественных форм мы имеем драму и трагедию, т. е. форму страдания, а не имеем ничего для темы радости? Если мы хотим повеселиться и порадоваться, то смотрим фарс или комедию, т. е. любуемся поступками людей, которых, пожалуй, даже и не уважаем. Почему на самых последних задворках, среди разной мелочи, давно захирела идиллия.
Некоторые литераторы даже полагают, что счастье по самой природе своей не может быть предметом художественного изображения, ибо последнее невозможно будто без игры коллизий и противоречий.
Этот вопрос подлежит, разумеется, серьезному и глубокому теоретическому исследованию. Но уже и сейчас можно высказать некоторые предчувствия, и единственным основанием для таких предчувствий является новый образ счастья, выдвинутый Октябрьской революцией. В этом образе мы видим новые черты и новые законы человеческой радости, видим их впервые в истории. Именно эти новые черты позволяют нам произвести подлинную ревизию старых представлений о счастье и понять, почему так уклончиво относилась художественная литература к этой теме.
Представим себе, что у Онегина и Татьяна счастье было не только возможно, но и действительно наступило. Не только для нас, но и для Пушкина было очевидно, что это счастье, как бы оно ни было велико в субъективных ощущениях героев, недостойно быть объектом художественного изображения. Человеческий образ и Онегин и Татьяна могут сохранить в достойном для искусства значении только до тех пор, пока они страдают, пока они не успокоились на полном удовлетворении. Что ожидало эту пару в лучшем случае? Бездеятельный, обособленный мир неоправданного потребления, в сущности, безнравственное, паразитическое житие.
Передовая литература, даже дворянская, все же не находила в себе дерзости рисовать картины счастья, основанного на эксплуатации и горе других людей. Такое счастье, даже несомненно приятное для его обладателей, в самом себе несло художественное осуждение, ибо всегда противоречило требованиям самого примитивного гуманизма. Как кинематографический фильм не выносит бутафорских костюмов, так подлинно художественная литература не выносит морали капиталистического и вообще классового общества.
Именно поэтому литература не могла изображать счастье, основанное на богатстве. Но она не могла изображать и счастье в бедности, ибо подобная идиллия не могла, конечно, обойтись без участия ханжества.
Искусство, всякое настоящее искусство, никогда не могло открыто оправдать человеческое неравенство.
Классовая жизнь — это жизнь неравной борьбы, это история насилия и сопротивления насилию. В этой схеме человеческому счастью остается такое узкое и сомнительное место, что говорить о нем в художественном образе — значит говорить о вещах, не имеющих общественного значения.