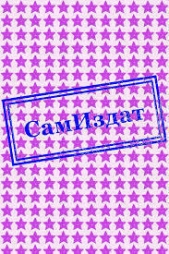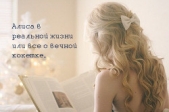Как ты ко мне добра
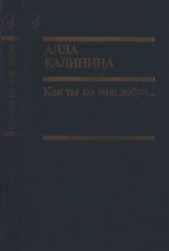
Как ты ко мне добра читать книгу онлайн
Роман Аллы Калининой «Как ты ко мне добра…» посвящен жизни советской интеллигенции на протяжении четырех десятилетий — с сороковых годов до наших дней. В нем рассматриваются вопросы становления личности, героев объединяет напряженный нравственный поиск.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечер был длинный, тихий, Вете так не хотелось уходить отсюда.
— Мам, а когда ты делаешь котлеты, ты чеснок кладешь?
— Кладу. А ты что, взялась за готовку?
— Нет, не взялась. Просто у нее котлеты ужасно невкусные, и борщ невкусный.
— Вот взяла бы сама и приготовила.
— Как же я приготовлю? А она? Мама, неужели вся жизнь вот так и будет: зима — лето, зима — лето, институт — работа, а потом умирать?
— Еще перед этим детей нарожаешь, чтобы было кому ныть после тебя, — добавила Ирка; она снова улеглась грудью на стол, положила на руки темноволосую голову, смотрела весело, задумчиво, лукаво. Ирке шел уже пятнадцатый год, и она очень изменилась, повзрослела, но не выросла, просто другие стали движения, тоньше лицо, изменилось выражение синих с золотым блеском глаз.
— И детей рожать тоже некогда, мне еще четыре года учиться. Скука!
— Вот так новости, ты же в таком восторге была от практики, а теперь вдруг — скука. — Юлия Сергеевна кончила пить чай и сразу же стала собирать со стола посуду.
— То был завод, мамочка, а здесь математику надо сдавать, а я ее всегда ненавидела, ты же знаешь. Ир, а у тебя как с математикой?
— У меня? Никак, у меня со всем никак. Потому что я бесталанная, не то что ты. Мне про тебя в школе все уши прожужжали, какая ты и какая я. Но в твой институт я точно не пойду. Потому что я, Вета, по складу гуманитарий, мне нужно что-нибудь такое, мечтательное.
— Я ей говорю — иди в медицинский, а она и слушать не хочет.
— И не хочу, не хочу, я и папе говорила. Потому что, если бы я пошла в медицинский, я бы умерла от одного воображения, посмотрю на человека, и сразу представлю себе, чем он болен, и сразу окажется — все больные, все умирают, это ужас какая будет жизнь. А я люблю, когда весело. Помнишь, Вет, как у нас раньше было?
Вета снова взглянула на часы: пора, давно пора уходить. Она подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу, вгляделась в темноту.
— Все крутит и крутит, ужас сколько навалило снега. Ну ладно, я пойду, вы тут не скучайте без меня, скоро забегу.
И сразу метель подхватила ее, толкнула в спину, погнала по улице, по знакомой дорожке: метро, четыре остановки, эскалатор, двором назад, через дорогу и дальше по переулочку, по этой дороге она, кажется, могла двигаться даже во сне.
Пока Вета поворачивает ключ в замке, уже слышатся торопливые, тяжелые Ромины шаги, он не может удержаться, кидает сигарету, всегда бежит ее встречать. Объятия, поцелуи, она раздевается, болтает чепуху, летит по квартире, веселая, как птичка. А потом, в темноте, в слабом свечении снега и уличных фонарей, холодно, отстраненно, молчаливо наблюдает за ним, как он раздевается, высокий, узкогрудый, с мягким животом и толстыми плоскостопными ногами. Нет, нет, неправда, она любит его, любит и жалеет… и еще что-то… И кроме того, она не знает, может быть, так все и надо, может быть, такая и есть любовь, и она потом привыкнет. Все может быть.
В столовой у мамы, в простенке между окон, стояла большая пушистая елка, и в комнате стало тесно, уютно, кисленький запах хвои мешался с запахами пирогов и мандаринов. Веге все-таки удалось уговорить Марию Николаевну. Это было трудно, очень трудно: «Да, Мария Николаевна», «Конечно, Мария Николаевна», «Как вы думаете, Мария Николаевна?» Потом дальше: «Не беспокойтесь, Мария Николаевна», «Я помогу, Мария Николаевна». Вета понимала — если бы свекровь могла растаять, может быть, она бы уже и растаяла, но она не могла. Спасибо, хоть перестала сверкать на нее глазами, даже стала называть по имени. Странно у нее это получалось, со скрипом, с натугой и на «э»: «Э… Вэ-э-та». Но все-таки это была уже победа. А Рома, тот вообще расцвел, сейчас его можно было отвести на веревочке не только к Юлии Сергеевне, хоть на бойню! Ах, стыдно, стыдно было лицемерить! Но что же делать? Не пропадать же ей совсем, не пропадать же Новому году! И вечер оказался неожиданно теплым, семейным, мирным. Часов в десять вдруг пришел поздравлять папин сослуживец Федоренко с огромным фигурным тортом, его уговорили остаться, он обрадовался, смешно ухаживал за мамой, рассказывал старые, не очень приличные анекдоты, а мама расцвела и все время обращалась к нему: «Сергей Степанович… Сергей Степанович…»
Завели патефон, Роман без конца танцевал с Ветой и Ирой, строго по очереди. Он был счастлив, смеялся высоким, сдавленным, хрипловатым смехом, откидывая голову назад, кружился, щелкая каблуками, а Федоренко вытащил Марию Николаевну и несколько раз старомодно и ловко провел ее по комнате под страстные стенания тенора:
Мария Николаевна держалась серьезно, с достоинством, но потом не выдержала, села за пианино, и ее бурная, страстная, стремительная игра, так непохожая на нее саму, произвела на всех такое же сильное впечатление, какое производила в детстве на маленького Рому. Все слушали, сгрудившись вокруг пианино, взволнованные, серьезные. Незнакомая, свободная, явно импровизированная музыка, не по радио, не в концертном зале, а здесь, рядом, в тесной комнате со сдвинутыми стульями и накрытым столом, была другой — прекрасной, важной, имеющей к каждому новое, личное отношение, и все замерли, задумались, даже изменились в лицах. И снова Вета, как той далекой морозной ночью в детстве, унеслась душой в какие-то непостижимые черные космические дали, и снова ощутила провал, бесконечность, сияние звездных миров, стремление улететь, расплавиться, слиться с вечностью. И хотелось, чтобы это продолжалось, длилось!
— Мария Николаевна, дорогая, как это было прекрасно, — говорила Юлия Сергеевна со слезами на глазах, — как это было прекрасно…
Мария Николаевна принимала похвалы сдержанно, сухо наклоняла голову и, только когда Рома поцеловал ей руку, наконец улыбнулась, несколько раз провела этой маленькой белой сухой рукой по его волосам.
— А все равно она зануда, — успела шепнуть Ира Вете на ухо, но тут вдруг засуетился Федоренко:
— Товарищи! Мы же опаздываем, товарищи, Новый год! Осталась одна минута! Шампанское, скорее!
Ира зажигала на елке свечи, погасили свет и посидели минутку в темноте, глядя, как едва колышутся в жаркой комнате слабые желтые огоньки в прозрачных чашечках растопленного воска, из которых то и дело стали скатываться бледные, застывающие на ходу слезинки.
А потом Вета незаметно заснула в углу дивана, и Роман не стал ее будить, он заторопился, чтобы успеть отвезти на метро Марию Николаевну до закрытия.
На следующий день все встали поздно, возились с посудой, доедали остатки вчерашних яств. Но Ирка неожиданно сказала:
— Вообще-то нехорошо. Потому что я бы, например, на его месте обиделась.
Любовь Романа была мукой, вечной пыткой, дрожанием, трепетом перед этим невозмутимым чистым существом, далеким от него, равнодушным к нему. Ну что мог он с ней поделать? Он жил в постоянной лихорадке надежды и отчаяния, он отупел, растерял друзей, забросил работу, не мог читать. Он не знал, как убить бесконечные пустые зимние вечера, когда ее все не было и не было дома, а он каждую минуту ждал ее, боялся отойти и не мог никуда позвонить. А когда она приходила, все делалось еще сложней.
Вот какая выпала ему судьба. Но он не жаловался, нет, он любил, задыхался от задушенной тайной страсти, впервые в жизни. Он думал: «Этого могло вообще не случиться. Я мог не знать ее, не увидеть, не встретить, я мог никогда даже не почувствовать ничего подобного тому, что сейчас переживаю. Какой ужас!»
Просто надо было взять себя в руки и ждать, ждать, ждать. Никто не мешает ему наслаждаться тем, что ему выпадает, тайно, блаженно, безответно. Он был смешон сам себе в роли подпольного сластолюбца, но что он мог поделать? «Работать — вот что, — говорил он сам себе, — ра-бо-тать».
А на работе тоже все было непросто. Собственно, сама-то работа шла нормально, даже хорошо. Тот метод расчетов, который он предложил и использовал в своей диссертации, оказался плодотворным, полезным, они обсчитали заново несколько узлов и получили интересные результаты, их группа оформила уже одно авторское свидетельство, и готовилось второе. Но тут произошла досадная история. Роману позвонил Ивлиев, фигура известная, значительная, заведующий лабораторией смежного института, и попросил срочно к нему заехать, дело не терпело отлагательства. Роман удивился: никаких особых контактов с лабораторией Ивлиева у него никогда не было, а начинать их он не был полномочен, да и не интересовался тематикой Ивлиева. Об этой тематике знал он кое-что от аспиранта Ивлиева — Рыбачкова, который однажды приезжал к нему с каким-то письмом знакомиться с работой Романа. Работа эта была ему совершенно не нужна, потому что диссертация его была уже практически закончена и пересчитывать все сначала по методу Романа не имело никакого смысла. Однако Рыбачков расспрашивал обо всем с горячим интересом, он сразу ухватил суть работы Романа, понял, что применять ее можно практически везде, в ней важен был сам принцип, и поэтому она оказывалась не просто методической, а открывала целое новое направление исследований. Но тогда все разговором и закончилось, а теперь Ивлиев срочно вызывал Романа к себе.