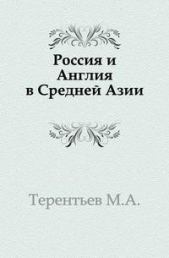Иди до конца

Иди до конца читать книгу онлайн
Повесть о жизни и работе советских учёных.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Терентьев одолел наконец подъем, пересек шумную Сретенку. По мостовой двигалась колонна снегоочистителей, за ними тянулись самосвалы. Снег валил все гуще, железные щетки взметали его вверх — над колонной кружились снежные вихри, пронзенные прожекторами: неистовый свет словно гонялся за неистовым снегом, снег вспыхивал и осыпался тысячью тысяч ярких огоньков. «Хорошо! — подумал Терентьев. — Просто хорошо!»
Теперь он стоял у грохочущей Кировской. Машина теснила машину, из снега выплескивались длинные рукава света, улица гремела кузовами, шипела шинами, слепила и надвигалась сотнями белых и желтых фар. В ее пляшущий световой туман и гул движения внезапно врывались шум и свет бульвара, и улица замирала: бульвар проносился мимо трамваями, грузовиками, легковушками, на другую сторону улицы торопливо перебегали беспорядочные стайки людей, В одну из таких стаек занесло Терентьева, он тоже бежал вместе со всеми, хотя на другой стороне Кировской его ничего не ждало. В стороне сверкнул неоновыми огнями почтамт, впереди путеводно горела красная буква «М». В общий гам, словно капая в него мелодичным звоном, врезывалось тонкое, чужое всей этой нетерпеливой жизни и потону отчетливо слышное перезвякиванье колоколов: невидная отсюда Меньшикова церковь сзывала своих старушек к вечерне.
Терентьев вышел на Чистые пруды.
Он уселся на скамью, над ним нависали нагруженные снегом тополя, в воздухе носились, не падая, снежинки, их все прибывало. Справа мерно гудела Кировская, из-за крыш высунулась маковка Меньшиковой церкви. Колокола отзвонили свое и замолкли. Терентьев всматривался в летящие снежники, шептал про себя издавна любимые строчки: «Кружатся желтые листы и не хотят коснуться праха. О, неужели это ты, все то же наше чувство страха?» Он читал стихи, чтоб не думать о себе, не испытывать мучившего его стыда.
Недовольство собой не утихало в нем со дня разговора с Жигаловым, подступало к горлу, как отрыжка непереваренной пищи. Терентьев забывал о работе, пытаясь разобраться в себе.
Все дело было в том, что он оказался иным, чем привык думать о себе. Он поразился этому новому, незнакомому человеку, каким оказался. Он не хотел себя такого. Но другого Терентьева, которого он вообразил за долгие годы жизни, попросту не было.
Терентьев вспоминал чувства, с какими слушал доклад Черданцева, — горечь, возмущение, негодование. Они, конечно, были естественными, эти чувства, обычная реакция обиженного человека. Но сейчас ему казалось, что в них обычность мелочности, та естественность, которой естественны пыль и дурные запахи. С какой-то иной, только открывающейся Терентьеву точки зрения все эти испытанные им чувства представлялись некрасивыми, чуть ли не постыдными. Он хотел додумать это новое понимание до конца. Он шаг за шагом уходил все дальше, возврата к старому не было, новое упорно не определялось.
«Надо решить: как? — думал Терентьев, рассеянно рассматривая нарядную колокольню Меньшиковой церкви, следя за детишками, лепившими снежную бабу, прислушиваясь к гулу машин, доносившемуся от. Кировской. — Надо, надо окончательно все решить!»
Он шумно вздохнул, сдунул с воротника и с груди насевший снег, снова нетерпеливо и сумрачно размышлял. Теперь уж он но остановится на полдороге, за мыслями последуют действия, мысль без действия — пустота. Лавочники — так я подумал о себе и Щетинине. Да как я посмел? Послушай, я прав — не во всем, конечно, не во всем, словцо это придумалось сгоряча, — во многом прав… Черт знает что такое, на подходе к коммунизму, не в темную древность, мы, ученые, цвет общества, иногда превращаемся чуть ли не в каких-то хозяйчиков, возделывателей личных научных огородов, где за высокими стенами, охраняемая от посягательств со стороны, выращивается наша продукция — эксперименты, исследования, статьи. Любой наш институт — это же собрание кустарей, каждый до поры скрывает находки от соседей — научный секрет. А ведь наука не только предназначена для всех, как общее благо, но и немыслима без усилий всего общества; ее фундамент, ее исходный материал — механизмы, моторы, приборы, здания, коллективы рабочих и техников, энергия, химикаты… Наука индустриализуется, давно уже стало трюизмом говорить об этом. «В науке надо творить!» — твердит Михаил. Правильно, твори, но не превращай науку чуть ли не в свое личное хозяйство, в ней не один лишь твой труд! А если ты опять обвинишь меня в уравниловке, закричишь, что я отказываюсь от платы за работу, награды за успех, я скажу тебе снова: к черту уравниловку! Награждай мою особую роль в научных разработках званиями и степенями, зарплатой и орденами — я счастлив твоей высокой оценкой, я благодарен. Но не превращай награду в цель моего существования и труда; это стимул, согласен, но не цель, такой цели я не хочу, я не буду творить ради подобной цели, нет, мне нужна более высокая высота!
Да, творчество индивидуально — и тут прав Михаил, — но сотрудничество, но помощь товарищу — ученому, они всеобщи, они действуют в науке, как и на фабрике, как и в колхозе. Без сотрудничества само творчество скоро станет немыслимо, а мы забываем это, порою даже и не догадываемся. Дорогой Евгений Алексеевич, я честно взгляну вам в глаза, вы меня одобрите, знаю!
Терентьев встал со скамейки и пошел по аллее. Он чувствовал удивительное широкое спокойствие, в спокойствии этом, словно редкие кустики на необозримой песчаной равнине, сразу потерялись мучившие его мелкие тревоги и горести. Впереди лежал ясный путь, но нему надо было шагать не оглядываясь, шагать до конца — за край горизонта. Впервые за много дней Терентьеву было по-настоящему легко.
Он опять возвратился к Трубной площади, свернул на Цветной, вышел на Самотеку. В пустынных аллеях кружился снег. Терентьев некоторое время топтался под деревьями, потом пропетлял Ямскими на улицу Горького, с наслаждением окунулся в шумный людской поток. По мостовой мчались машины, нескончаемые машины. Улица пламенела, звенела, грохотала, толкалась, вздымалась ввысь — сверкающее ущелье величественных домов. На площади Белорусского вокзала Терентьев остановился и осмотрелся. Вдаль уходил Ленинградский проспект, в сторону разбегались Лесная улица и Бутырский вал, Грузины и пресненские улочки, позади переливалась огнями главная магистраль. У Терентьева захватило дух: до того был прекрасен этот огромный, заснеженный, грохочущий и сияющий город!
25
На другой день, при встрече, Терентьев сказал Щетинину:
— Надо посоветоваться с тобою, Михаил.
— Идем ко мне, — предложил Щетинин. — Там никто не помешает.
У Щетинина, как и у других ведущих докторов института, был отдельный кабинет с дверью в лабораторию, где работало человек десять техников и инженеров. Он усадил Терентьева в кресло и на минуту вышел к своим сотрудникам.
— Так чего ты надумал? — спросил он, возвращаясь.
— А ты предполагаешь, что я чего-то надумываю? — полюбопытствовал Терентьев.
— Предполагаю — не то слово, — поправил Щетинин. — Не сомневаюсь, так будет точнее. Тебя, вероятно, интересует, почему я не сомневаюсь?
— Конечно. Ты стал неожиданно догадливым.
— Догадаться не трудно, раз человек ходит с такой мрачной физиономией, словно настраивает себя на какие-то отчаянно-смелые решения. Уж не собираешься ли ты бросить институт?
— Точно! На время, разумеется.
Терентьев говорил уверенно, зная, что если смысл его решения и возмутит друга, то тон обескуражит. В последние дни он много думал о диссертации Черданцева. Именно на таких высококонцентрированных, запутанных по составу смесях надо проворить правильность или, точнее, практичность теории Терентьева. Лучшая из всех проверок — само заводское производство. Короче, пришло время Терентьеву двинуться в цех и там окончательно установить, какова истинная ценность его теоретических находок.
Щетинин недоверчиво усмехнулся. Против обыкновения он не кинулся немедленно в спор, не стал в возбуждении бегать по комнате. Терентьева задела его холодность. После вспышки в коридоре перед кабинетом Жигалова они помирились, но какая-то отчужденность сохранялась. Терентьев не столько хотел посоветоваться, сколько стереть эту отчужденность.