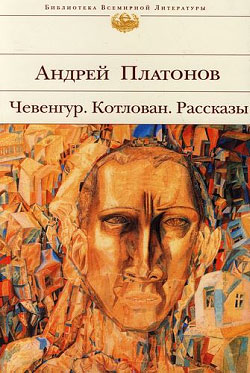Колымский котлован. Из записок гидростроителя

Колымский котлован. Из записок гидростроителя читать книгу онлайн
Большая трудовая жизнь автора нашла правдивое отражение в первой крупной его книге. В ней в художественной форме рассказывается о первопроходцах сибирской тайги, строителях линии электропередачи на Алдане, самой северной в нашей стране ГЭС — Колымской. Поэтично изображая трудовые будни людей, автор вместе с тем ставит злободневные вопросы организации труда, методов управления.
За книгу «Колымский котлован» Леонид Кокоулин удостоен премии Всесоюзного конкурса ВЦСПС и СП СССР на лучшее произведение художественной прозы о современном советском рабочем классе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но Андрей еще не видел, как она ходит за зверем, да и зверей тоже не видел.
Я принес полотенце вафельное, мыло — большой кусок, хозяйственного, потрескавшегося, как пересохший сыр. Подкинул в костер дров, снял ведро — разбавил воду снегом. Наломал веток ерника и бросил у костра. Раздеваюсь.
— Ты че, дед?
— Ты тоже снимай рубашку, снимай, снимай, париться будем. Душ принимать, нервы укреплять.
— Смотри, — запрокидывает он голову к звездам, — мороз ударит!
— Снимай рубаху, говорю!
— Я же не злой. Мне зачем нервы укреплять?
— Ну, как хочешь. Помой хоть лицо, раз ты такой слабак.
Андрей стоит, соображает. Я же раздет до пояса и разут — стою на прутьях.
— Польешь? — спрашиваю.
Наклоняюсь, Андрей льет на затылок, спину обжигает. Растираюсь полотенцем — тепло. Отошла усталость. Мою ноги.
— Прямо красота, — говорю, — сто пудов слетело. Это по-охотничьи. Ну, спасибо, Андрюша, удружил, братец, уважил. Дед мне всегда говорил: закаленный сынок — меткий стрелок.
Андрей снимает шапку, телогрейку.
— Удружи и мне так.
— Не замерзнешь?
— Я же не хлюпик — охотник.
Помогаю стянуть рубашку. Андрей ежится.
— Давай, — подставляет спину.
— Мой вначале руки.
— И лицо? С мылом?
— Храбрый ты парень, Андрюха!
— Ты тоже, дед, отчаянный, — фыркает Андрей. Только брызги во все стороны.
Подбегает Голец, любопытствует. Помогаю Андрею — растираю его полотенцем, надеваем рубашки.
— Сто пудов слетело, — говорит, отдышавшись, пацан, сует ноги в сапоги — и бегом в хижину. — Гольца возьмем? — спрашивает. — Замерзнет.
Вталкиваю щенка, завязываю наглухо вход в хижину, и мы с Андреем залезаем в мешок. Холодит спину, ноги. Но мы-то знаем — это только поначалу. Щенок потоптался и стал скулить: просится на улицу. Неохота вставать, а надо. Выпустил.
Андрей жмется ко мне.
— Ну, уважил, дед, хороший ты, братец.
Чую, куда гнет. И тут же:
— Расскажешь, а? — дышит прямо в ухо.
— Что тебе рассказать, не знаю.
— Знаешь, знаешь… А ты видишь, дед, как пахнет?
— Не вижу, а слышу — весной.
— А я вижу. А Талип не чувствует, да ведь?! У него же нет такой перины. А у тебя был свой дедушка? — вдруг спрашивает Андрей.
— Когда я был такой, как ты.
— Ну вот интересно — расскажи?
Замолкаем. И тут же в памяти выплывает избушка из кондовых сутунков, крытая на один скат драньем. Изгородь, и Карька, уткнув морду в дымокур, стоит. На избушке висит зацепленная за наличник коса с гладким березовым черенком, на котором приделана ручка тоже из березы буквой А — это первый мой букварь.
И дедушка на берегу около лодки-смоленки стоит, высокий, прямой, как сухостоина. Белая борода, домотканый шабур [7] на нем, поверх опояска, на опояске кисет из бычьего пузыря с порохом, другой — с табаком. И руки у него словно корни кедра — длинные, крепкие, держат древнюю берданку.
Что рассказать Андрею про своего деда? Не знаю, поймет ли, будет ли ему интересно, ведь до сих пор я рассказывал сказки. А про деда я ничего выдумать не могу, иначе это будет не мой дед, а я хочу, чтобы он был моим — каким я его помню.
На лето я всегда уезжал к деду. Он умел совершенно бесшумно ходить по лесу и появляться там, где его никогда не ждешь. Он вырастал словно из-под земли. Смотришь, никого кругом, только трава колышется, и вдруг дед стоит посредине.
А еще дед был просто волшебник, уму непостижимо! Например, он говорит: — Хочешь посмотреть совят? — Кто же не хочет. — Тогда иди, за тем деревом дупло. — Иду: действительно сидят, таращатся очкарики.
Или спрашивает: — Меду хочешь? — В тот самый момент, когда живот от голода к позвонку прилип. — Посмотри в этом дупле, — скажет. Смотрю: мед, и кусок лепешки, и туесок березового сока.
Чтобы к деду добраться, вначале мы с мамой едем целый день на коне, запряженном в телегу, едем по увалам и перелескам, через речки. Телегу трясет на кочках и кореньях, подкидывает, в животе даже больно. Ночуем. Мажемся от гнуса дегтем.
Мама встает рано. До солнца она косит траву, потом мы пьем кипяток, заваренный смородинным листом, с калачиками пшеничными. И она провожает меня. Идем между высоких кочек. Утки то и дело из-под ног: фыр-фыр. И так до самого леса. Еще и по лесу немного, до тропинки — от нее я и сам знаю дорогу — к вечеру добегу — маме тоже надо засветло успеть вернуться домой.
Вот я и прибегаю к деду.
Дед и говорит: если не устал, бери мое ружье и стриги, значит, беги на солонец — ты, говорит, ужо самостоятельный, во второй класс перешел. Доверяю.
Это, конечно, предел моих мечтаний.
Дед дает мне ружье и один заряд.
— Дорогу не забыл? — спрашивает.
Бегу. Ружье по пяткам прикладом, а я ног под собой не чую! Не помню, как добежал. Сквозь кусты, через валежины прошмыгнул ящерицей в поднакатник. Скрадок — как в погребе — ощупал, поднялся на четвереньки. Сердце никак унять не могу, трепещет.
Перевел дух, отогнул мох из смотрового окошечка, припал, смотрю между бревен, елань с ладошку, пень обгорелый на ней, как испорченный зуб, торчит.
Про этот пень мне дед рассказывал, что когда-то был он могучим кедром и шишек на нем бывало, как мошек в ненастье. Да не устоял перед молнией. Вот здесь и выбрали звери солонец. Яма вроде еще глубже стала. Ходит, значит, зверь. Да и как не ходить? Помню, дед в прошлый мой приезд и соль приносил сюда каменную, как леденец. Не просто дед землю солит, а вначале колом наделает дырки и эти дырки солью набьет, как трубку табаком. Только дед на солонцах не курит — даже трубку не берет с собой. Зверь табак чует, особенно изюбр — будет ходить вокруг да около до темноты.
Но недаром и вешки березовые маяками торчат — это дедушка специально поставил перед солонцом. Если в густых сумерках придет зверь, то застит собой белые вешки, а дедушка на прицеле их еще с засветло держит.
Ну и грохнет в эту черноту выстрел.
А до этого времени сидим, не дышим, даже в ушах покалывает: на солонцах сидеть — выдержка и терпение нужны. Что тогда, что и сейчас. Ничего не изменилось. Разве только нынче листва раньше полезла, отметил я, да иван-чай на обочине елани закурчавился оранжевыми сережками.
Ну, само собой, раньше я не с заправдашним ружьем, а теперь с настоящим, с дедушкиной берданкой.
Я, как и дедушка, просовываю в смотровое оконце ствол, тихонько, чтобы не стукнуть, кладу в рогатину на упор — взвожу, даже пальцы белеют. Взведенный курок глядит вопросительно, приклад упираю в правое плечо, как учил дед, щекой припадаю к ложе. И, не мигая, смотрю через прорезь на мушку. Палец полагается держать на спусковом крючке.
— Потом?
— Потом, смотрю, — заяц.
— Ну? — не выдерживает Андрей.
— Прыг, скок — остановится, постучит лапками о землю, будто на барабане играет, зовет. А у меня в глазах уже два, три зайца прыгают.
И вдруг их словно ветром сдуло, как сквозь землю. Шарю глазами, не видно, глянул через прорезь, а на мушке козел, стоит как нарисованный, только ушами поводит.
Закрыл глаза — перестал дышать, открыл — с поднятой головой стоит, хоть и с кустами слитно. Не помню, Андрейка, как я нажал на спусковой крючок, хоть убей, не помню! Только оглушило, и в плечо…
— Садануло, да, дед?
— Садануло.
— Устоял?
— Не устоял бы, если на ногах.
— А потом?
— Выбегаю. Ружье, конечно, оставил — и бегом, сколько духу было, через елань. Подбегаю. Смотрю, два козла лежат: один еще ногами дрыгает. Пуля прошила первого, а за ним и второго достала, Я рад, мечусь, не знаю, что и делать.
— Зря ты их, дед, — перебивает Андрей. — Поймать бы.
— Времени не хватило бы, и так уже солнце за лесом спряталось, сыростью потянуло, как из погреба.
Вернулся в скрадок — порохом еще пахнет. Нащупал ружье, посидел на дедушкином лежаке, слабость какая-то в ногах. Вышел. Лось стоит, будто чернилами залитый.