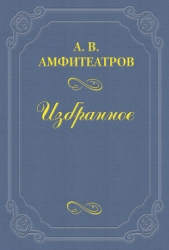После града
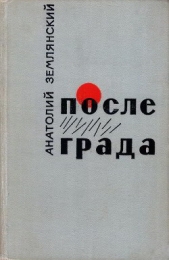
После града читать книгу онлайн
«После града» — новая книга прозы Анатолия Землянского. До этого у него вышли два сборника рассказов, а также книга стихов «Это живет во мне».
И прозе и поэзии Анатолия Землянского свойствен пристальный взгляд на жизнь, стремление к лирико-философскому осмыслению увиденного и пережитого.
Это особенно характерно для настоящего сборника, в котором на материале армейской жизни военного и послевоенного времени ставятся острые проблемы человеческих отношений. В повестях и рассказах — сложные жизненные ситуации, взволнованные строки о мужестве, о силе и красоте чувства, искренняя вера в человека, прошедшего через многие испытания, оптимистическая влюбленность в этого человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На третий день наступления ранило Звездина. Сначала в руку, и он отказался уйти с КП. Потом осколком — в бедро…
— О чем задумался?
Я вздрогнул и увидел повернутое ко мне лицо Емельяна. Но ответить не успел: от ближайшей к круче сельской околицы к нам спускалась по тропке Марина. В правой руке ее развевалась косынка.
Марина спешила…
Рассветный горн

«Москва — Ленину»

Начав передавать очередную депешу, телеграфист Царицынского военного телеграфа, до щуплости худой, с покрасневшими глазами красноармеец, от удивления даже снял пальцы с ключа. Что такое? Позавчера он передал в Москву точно такую же телеграмму, а сейчас — на вот тебе: опять о том же. И опять краткий, из двух слов адрес: «Москва, Ленину».
Только вчера под телеграммой стояла подпись, кажется, милиционера. Да, да, вспомнил телеграфист, подпись гласила: «Сотрудник милиции Усачев». А сейчас… Он наклонился и прочитал: «Красноармеец Минин».
«Можно подумать, — досадливо качнул головой телеграфист, — что у Ленина и дел других нет, кроме этой контры. Как ее… Серафимы, что ли. Небось опять ходатайствуют. Ну да — вот, пожалуйста…»
Телеграфист взялся за ключ, по белой, медленно ползущей ленте бежали точки и тире: «Арестована семнадцатилетняя служащая Царицынского жилищного отдела. Она изорвала ваш портрет. Просим вмешательства и разрешения освободить арестованную».
Телеграфист неодобрительно покачал головой, отложил в сторону переданный текст, взял новый…
Опять потекла лента с тонкой прерывистой линией посредине. Теперь тире и точки таили в себе пугающие и безрадостные вести о положении в городе. Голод усиливается… Тиф… Не хватает обмундирования и оружия, особенно боеприпасов… На исходе топливо… Вышли из строя паровозы…
Мелко, в механической дрожи бьется под пальцами телеграфный ключ. Царицын докладывает Москве. Докладывая, просит, требует, умоляет. Пошлите… крайне необходимо… Иначе захлебнется начатое наступление…
Царицын пока не знает, что раньше этой поступили в Москву еще более тревожные депеши.
С Запада: Польша, кажется, вторгнется в Литву и Белоруссию.
С Восточного фронта: перешел в наступление Колчак. Оставлена Уфа.
С Юга: Деникин захватил Луганск и часть Донбасса (это означало: страна лишилась угольной базы).
Из Прибалтики: Юденич готовится к наступлению.
С Севера: увеличивается угроза со стороны белогвардейского генерала Мпллера…
Бесконечный поток писем, телеграмм, донесений. Все они невидимо сходятся, концентрируются в Кремле. У Ленина. Каждая в отдельности — сигнал о бедствии. Все, взятые вместе, — судьба революции.
И вот среди них: «Просим вмешательства и разрешения освободить арестованную».
А через день — снова. О том же.
Первая, напечатанная на машинке с ленты депеша легла на стол Ленина шестого марта. Владимир Ильич только что вернулся с заключительного заседания Первого конгресса Коминтерна. Взволнованный и оживленный, он прошел в свой кабинет, не садясь, взялся за телефонную трубку. Начал разговаривать.
Неслышно вошла молодая, скромно одетая, с аккуратно прибранными волосами женщина — секретарь. Положила стопку листков, ушла, бесшумно закрыла за собой дверь.
Ленин говорил спокойно, временами слегка откашливаясь:
— Поймите, дорогой товарищ, это очень важно. Да, да. Законность и еще раз законность… Кому же ее в первую очередь блюсти, как не нам с вами?.. Именно. Проверьте. Сами проверьте.
Разговаривая, Ленин брал из принесенной секретарем стопки бумаг листки, бегло прочитывал, откладывал в сторону. И вдруг голос его стал как бы жестче, морщинки скатились со лба к переносью. Он еще раз пробежал глазами только что взятую из стопки бумажку, но не отложил в сторону, а, помахивая ею в воздухе, стал говорить горячо и быстро:
— Вот, полюбуйтесь. Еще один примерчик того, до какого головотяпства могут доходить некоторые товарищи… Нет, вы послушайте. Телеграмма из Царицына. Арестовали человека. Как бы вы думали — за что? За то, что он — вернее, она — порвала портрет Ленина. Чудовищно! Просто невероятно.
Ленин с расстановкой произнес последнее слово, и его обычно мягкое, вибрирующее «р» прозвучало явственнее и круче, — как всегда, когда Владимир Ильич был разгневан.
— Не-ве-ро-ятно, — с усилием повторил Ленин. — А вы говорите… Что? Поняли? Ну наконец-то. До свидания.
Он положил трубку и тут же вызвал секретаря.
Когда она вошла в кабинет, Владимир Ильич торопливо писал что-то в блокноте. Прямо перед ним, прислоненная к конторке, стояла телеграмма из Царицына, подписанная милиционером Усачевым.
Вырвав исписанный листок, Ленин встал, протянул его вошедшей:
— Отправьте это, пожалуйста, немедленно. Сегодня же. Телеграфом.
Выйдя, секретарь прочитала две короткие строки, адресованные губпсполкому и ЧК в Царицыне:
Семнадцати лет девушка арестована будто бы за мой портрет, сообщите, в чем дело.
Председатель Совнаркома Ленин
В тот же день телеграмма была принята Царицыном…
Портрет Владимира Ильича давно уже был кем-то вырезан из газеты и приклеен размоченным хлебным мякишем к стене в одной из комнат жилотдела. Никто не мог сказать, кем это было сделано. Да никто и не думал об этом — ни степенный, в пенсне, вечно с теплым стареньким шарфом на шее заведующий, которого все звали коротко — Пал Кузьмич; ни высокая, еще моложавая, но угрюмая и неразговорчивая Наталья Федосеевна — делопроизводитель; ни тем более Сима, секретарь, неровная по характеру смуглая девушка, совсем недавно пришедшая в отдел.
Портрет был приклеен на стене между столами Павла Кузьмича и Натальи Федосеевны — на самом видном месте. А стол Серафимы стоял как раз напротив — у противоположной стены. Едва она отрывала взгляд от бумаг, как тут же встречалась глазами с мягким, обрамленным морщинками прищуром и едва заметной улыбкой, которая будто говорила ей что-то хорошее и обнадеживающее.
И сколько Сима ни разглядывала такое уже знакомое ей лицо, все не могла найти в нем того, о чем, переходя почему-то всегда на полушепот, неодобрительно и отчужденно говорил дома отец.
Они жили все время при закрытых дверях и ставнях. Отец, с тех пор как перестал спускаться вниз, в свой магазин (там уже нечем было торговать), почти не отлучался из дому. Правда, теперь чаще, чем раньше, стали приходить в дом какие-то незнакомые Симе люди. Отец иногда подолгу просиживал с ними в своей комнате, а иногда они уходили тут же, едва обмолвившись с отцом несколькими словами. И если то, что они говорили, было приятно отцу, он веселел. Тогда повторялось одно и то же. К ее, Симиному, возвращению он выходил, прислонялся, разбиваемый кашлем, к дверному косяку, закуривал и, затуманенный едким коричневатым дымом, спрашивал:
— Ну, как там большевички? Перемен никаких не слыхать?
— Ничего не слыхать.
Отец начинал сердиться, ругал власти. Сима давно знала, что отец ждет каких-то перемен, но не знала, каких именно. Перед ней вставало улыбавшееся с портрета лицо Ленина, и она никак не могла понять, как это о Ленине, о человеке с таким мягким и открытым лицом, можно сказать что-либо плохое. А он ведь главный большевик…
Однажды Сима возразила отцу:
— А у нас все так любят Ленина. Пал Кузьмич говорит…
— И твой Пал Кузьмич большевик, — сердито перебил ее отец. Он с силой оттолкнулся от косяка, ушел, хлопнув дверью.
Мать в разговор не вступала, а только, закусив нижнюю губу и скрестив на груди руки, поддакивала отцу. Сима растерянно молчала, а утром спешила уйти из дому.
Теперь все сильней пригревало солнце, неприбранные, заснеженные улицы почернели, из подворотен и на покатостях пробивались первые ручейки. Все это скрадывало царившие в городе угрюмость и запустение, они уже не были теперь такими пугающими.