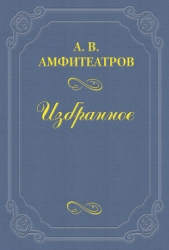После града
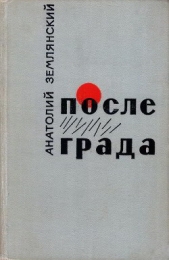
После града читать книгу онлайн
«После града» — новая книга прозы Анатолия Землянского. До этого у него вышли два сборника рассказов, а также книга стихов «Это живет во мне».
И прозе и поэзии Анатолия Землянского свойствен пристальный взгляд на жизнь, стремление к лирико-философскому осмыслению увиденного и пережитого.
Это особенно характерно для настоящего сборника, в котором на материале армейской жизни военного и послевоенного времени ставятся острые проблемы человеческих отношений. В повестях и рассказах — сложные жизненные ситуации, взволнованные строки о мужестве, о силе и красоте чувства, искренняя вера в человека, прошедшего через многие испытания, оптимистическая влюбленность в этого человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А над Емельяном не было ни кругов, ни похожей на деготь темноты, ни верхушек сосен. Он лежал ничком.
В землянку мы его втащили, не видя, что в левой, уже безжизненной его руке белеет скомканный листок бумаги. Когда Емельяна перевязывали, он глухо стонал и временами произносил одну и ту же фразу:
— А я так верил…
На этот раз в него стрелял не снайпер. Ключицу и всю плечевую кость раздробило ему из пулемета. Прицельной, рассчитанной очередью, часть которой досталась Жене: две пули пробили ей грудь и шею.
В тот же день Женю похоронили, а Емельяна отправили в тыл.
Мы все провожали его, а вернувшись с эвакопункта, увидели на столе, рядом с фотографией Марины, мятую, измазанную землей и кровью записку. Прочитали сильно растянутые, редко брошенные по листку строчки:
«Может, ты удивишься этому, Емельян, но я иначе не могу. Ни в чем я не буду тебя упрекать. Только и ты не упрекай меня. Так уж получается у нас. Я выхожу замуж. Поэтому писать мне не надо. Желаю тебе счастья. Марина».
Клеточки на бумаге были крупными и четкими, и мелкие Маринины буковки смотрели на нас словно бы из-за частой и плотной решетки. А потом вдруг они начинали казаться нам надписью, что сделал Звездин на столбике, поднявшемся над Жениной могилой…
Записка побывала в руках каждого из нас, но особенно запомнилась она мне в руках Звездина. Прочитав ее, он долго смотрел в одну точку стола, обхватив ладонями голову и запустив пальцы в длинные сыпучие волосы, потом поднялся, спокойно и жестко сказал:
— Мы будем ее судить. — Подумав, добавил: — За измену.
— Кого ее? — спросил Шалаев.
— Ее, — с той же жесткостью ответил Звездин, показав глазами на фотографию. — Суд, пусть заочный, но должен состояться. Я предлагаю — расстрел.
Мы в недоумении смотрели на него, а оп уже брал со стола фотографию. Заметив, что мы молчим, спросил:
— Других предложений нет?
Мы пожали плечами.
— Тогда пошли.
Миновав штаб, мы спустились в лощину и по той самой просеке, по которой Емельян уезжал на Урал и по которой его, тяжело раненного, увезли сегодня в тыл, вышли к небольшой лесной поляне. На ней уже кустилась низкорослая зелень, пересыпанная ранним лесным разноцветьем. Из глубины сосняка густо и утомляюще тянуло живицей, прелой хвоей и бодрящим запахом молодого папоротника.
А над всем лесом висела плотная майская синь. Вершины сосен качались, и казалось, что это они, гигантские раскидистые кисти, так ровно и тонко выкрасили небо. Лишь над поляной оно было посветлее, и мы, точно забыв, зачем пришли сюда, долго смотрели вверх, ничего не говоря друг другу. Мы и за всю дорогу не обмолвились ни словом, каждый думал о чем-то своем. А скорее всего, каждый думал о случившемся. Потому что нельзя было не думать об этом столь нелепом и так потрясшем нас случае.
Да, фронт есть фронт. Да, и ранение и смерть здесь не в диковинку. Ко всему мы были готовы и привычны. Но причина гибели Жени и увечья Емельяна не укладывалась в нашем сознании и не могла быть оправдана. Тем более Звездиным. Он все делал, чтобы не пролилась и капля лишней крови. Даже по неопытности или по случайности. («Знаю, что наивно, знаю, что капля в море, но ведь капля не воды, а крови!» — вспомнил я давний его разговор с Гурьяниным.) А тут откровенно бессмысленные жертвы. Жертвы холодной, как нам казалось, и беспричинной жестокости. Именно так была воспринята нами каждая строка в Марининой записке.
Да и не только смерть Жени и ранение Гурьянина подавляли нас. Мы были угнетены самим фактом девичьей неверности. На наших глазах взялась прахом казавшаяся несокрушимой святость чувств, отчего в каждом из нас мгновенно поселилось тягостное и непреходящее ощущение зыбкости самой высокой и большой веры.
Но с верой всегда расставаться трудно. Даже если не остается сомнений в том, что тебя обманули. И даже если ты наполнен негодованием, как свинцом. Она словно бы не сразу выветривается из сознания, в котором долго и полноправно жила.
Наверное, поэтому мы и медлили и, безотчетно выигрывая время, околдованно смотрели на небо, дышали лесными запахами, которые как бы расслабляли нас.
Мне показалось, что Звездин уже колеблется. Наверное, об этом подумал и Шалаев, потому что вдруг пристально и многозначительно посмотрел на меня, переведя тут же взгляд на комбата.
Но Звездин не переменил решения. Он повернулся, подошел к ближайшей от нас сосне и шильцем перочинного ножа прикрепил к стволу фотографию.
С расстояния пятнадцати метров карточка казалась очень маленькой. На матово-розовом сосновом стволе блестел крохотный прямоугольник. Отчетливо виднелись контуры прически, овал лица, высветленного доверчивой и мягкой улыбкой.
Мне довелось отмеривать шаги и стрелять первым. Я изготовился, Звездин кивнул, и рука моя стала поднимать пистолет.
Я знаю, что был не меньше Звездина и Шалаева зол на Марину за ее измену, но все же хорошо помню, что во мне жила и тогда какая-то противодействующая сила. Наверное, от сознания недоказанности вины. И теперь я знаю, что нет ничего страшнее пренебрежения такой недоказанностью. Оказывается, оно может уносить жизни. А в лучшем случае оставлять травмы.
По нахмуренности лиц и еще по каким-то неуловимым признакам я догадывался, что Звездин и Шалаев обуреваемы теми же сомнениями. Только сомнения наши были намного меньше боли и ненависти, вызванных гибелью Жени и ранением Емельяна. А вдобавок ко всему мы были просто молоды и не умели побеждать чувства мудростью размышления. Да еще столь чистые и праведные чувства. И поэтому на поляне один за другим все-таки прогремели три гулких выстрела.
Но насколько же иными были мы все при свершении этой символической казни! Я хорошо знал, и теперь помню, как обычно стреляли Звездин и Шалаев. Звездин бывал при стрельбе красив и строг: левая рука резко отведена за спину, белые брови стянуты к переносице, ноги расставлены нешироко и упруго, пистолет в руке — как впаянный.
Комбат принимал эту стойку в одно мгновение и почти не целился.
А Шалаев стрелял с форсом: сильно разворачивал корпус и отводил руку далеко в сторону. И долго целился. Я подражал Звездину.
А на этот раз нас никто бы не узнал. И мы сами себя не узнавали. Стреляли мы торопливо и как-то принужденно, не заботясь ни о стойке, ни о форсе. Пистолеты мы не вскидывали, а медленно и вяловато поднимали, как очень большую и непривычную тяжесть. Сделав выстрел, каждый старался не смотреть на других, поспешно отходил в сторону и снова принимался молча, бессмысленно разглядывать верхушки сосен и синее небо.
Звездин стрелял последним.
По лесу где-то еще металось эхо его выстрела, а он уже снимал фотографию со ствола сосны. И до самой землянки даже не взглянул на нее.
Только, вкладывая карточку в конверт, в который была вложена и записка, мы не удержались: каждый брал в руки казненную «хозяйку землянки» и подолгу в суровом молчании смотрел на нее.
А потом я выводил на конверте адрес: область-район… село Бруснички, Созиной Марине…
Письмо наше принесли Маринке вечером. Принесла его тетка Домна, сельский почтальон, сухая, остроскулая и говорливая вдова, знавшая в Брусничках подноготную каждой хаты. Не знала она только, отчего это Созина Маринка последнее время переменилась, будто наговор ей какой сделали. «Такая девка, хохотушка и певунья, а вон как ее умаяло что-то…»
И когда, перебрав на почте тощими пальцами письма, тетка Домна увидела наш неказистый конверт, она решила, что теперь-то развеются Маринкины печали. Бойкая и резкая на язык, готовая в любую минуту по-свойски отбрить любого, хоть даже само районное начальство, тетка Домна была в то же время щедрая на добро. Письмо для Марины она положила отдельно и теперь, кажется, не шла, а летела в Бруснички.
Уже была роздана вся почта, начиная с самого дальнего края, и вот наконец хата Созиных. Обычная, ничем не выделяющаяся хата — с крыльцом, с резными ставнями, с невысоким палисадником к улице.