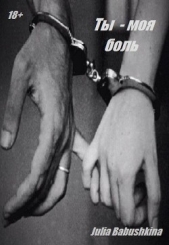Невидимый огонь

Невидимый огонь читать книгу онлайн
В прологе и эпилоге романа-фантасмагории автор изображает условную гибель и воскресение героев. Этот художественный прием дает возможность острее ощутить личность и судьбу каждого из них, обратить внимание на неповторимую ценность человеческой природы. Автор показывает жизнь обычных людей, ставит важные для общества проблемы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это был заяц-беляк, и Мориц гнал его прямо на Вилиса, и ни елка, ни кустик, решительно ничто не заслоняло ему косого. Заяц был как на ладони!
«Свят-свят, где я это видел?» — мысленно воскликнул он, даже подскочив от волнения и чуть ли не испуга, и сгоряча ему показалось, что все это он уже видел во сне, ведь не могло же наяву через двенадцать лет все повториться с такой точностью. А заяц, преследуемый собакой, мчал прямо на него как экспресс. Казалось — еще секунда, и он стрелой проскочит у Вилиса между ног. Рука сама собой судорожно ловила, хватала ружье — глупая рука, ведь в стволе не было дробового заряда, в стволе не было ничего. Он зачем-то хотел вскрикнуть, но с губ слетел лишь короткий задушенный звук. И заяц, в самый последний момент взяв чуть в сторону, будто нырнул в белое сверкание снега и растворился в нем как призрак. Мимо пронесся Мориц, вывалив красный язык в горячем облаке пара, и тоже скрылся, и все это произошло мгновенно — он даже не успел отозвать собаку.
Так, все.
От волнения у него тряслись руки. Под ребрами что-то двухголосо тукало и гудело, стучало и гремело, как бы перекликаясь, — казалось, что у него в груди два сердца, которые бешено бились в неодинаковом ритме, одно чуть опережая другое. Тишина в лесу стояла глубокая, мертвая — как на дне колодца. И лишь постепенно из нее, как очертания предметов на рассвете, стали вновь выплывать звуки, и Вилис, будто у него открылись уши, услыхал и чистую, музыкальную трель снегиря.
Действительно ли что-то произошло… или ему просто пригрезилось? Заячий след… след собаки. Наяву это… или только мираж?.. Он все не мог прийти в себя. Совсем как тогда, точь-в-точь как двенадцать лет тому назад, о боже! Только сегодня он не выстрелил. Его не покидало странное ощущение, будто мимо, очень близко, пробежало счастье. Третий раз это уж не повторится, по три раза все бывает только в сказках. Третьего случая не будет…
А дальше? Дальше что?
Так и остаться на веки веков потухшей звездой, от которой кое-когда по привычке струится и льется былой свет? Смириться с тем, что высшая точка, пик жизни уже позади, в прошлом, и только маячит где-то в сгустке воспоминаний?
Логика зрелого человека подсказывала ему, что разумней смириться, что жестокое время, увы, работает не на него и что с годами не в арифметической, а уже в геометрической прогрессии убывают, падают его шансы свершить, осуществить то, к чему он стремился всей душой. Но что-то в нем было сильнее рассудка — чем больше таяли его надежды, тем жарче разгорались его желания. Еще он не достиг того порога, за которым убыль сил и умеренность желаний, согласуясь, уравновешивают друг друга, смягчая трагизм старости. Еще он не прошел сквозь шлюзы лет в эти безбурные смиренные воды. Еще его терзал разлад между юношескими порывами и стареющим телом. Еще он мучился и страдал от несоответствия силы чувств тем необратимым процессам, которые он в себе ощущал и которые медленно, но верно съедали его как гниль, притупляя восприятие и эмоции, ослабляя память и мужскую силу. Еще он не дошел до того, чтобы винить в этом других, среду, окружение, общество, весь свет, который теперь не такой, как был, как прежде, во времена его молодости. Вину он искал еще в себе, но от этого ему было не легче, наоборот, — вполне сознавая свое положение и в то же время не в силах что-либо изменить или поправить, сломать или устранить, он мог только скрывать это от всех, даже от Ритмы, хотя скрыть от нее было всего труднее. Что она во всем этом понимала и могла понять?
Вилис встряхнулся, как конь, отгоняющий мух, и сказал себе:
— Давай помаленьку трогай, старик!
Привычным движением он сдвинул повыше ружейный ремень на плече, поправил на голове шапку и уже потянулся к очкам — снять их и протереть: стекла затуманились, запотели от пара или запорошились снежком. Но так и не донес руку.
Выстрел! Еще выстрел!
Дуплет, что ли?
…три… четыре… пять…
Вилис машинально считал. Пять! Похоже на автомат. Он живо в уме перебрал, у скольких из них, у кого не двустволка, а автомат. У троих.
Он навострил уши, не подадут ли сигнал — тогда, значит, зверя свалили. От такой шалой канонады, правда, редко бывает толк, но случается всяко.
Гипп… гипп… гиппп… — отрывисто доносилось откуда-то сверху, где никому не было дела до кипевших внизу страстей. Клестов не спугнула, не смутила даже стрельба. Глупые птицы. Или в этом была своя, недоступная ходящим по земле мудрость?
Как Вилис ни вслушивался, сигнала не дождался. Стало быть, лось не убит. Ранен? Или опять как ни в чем не бывало выбрался из оклада?
— Перкон! — кричали его.
— Ну?
— Где ты там? Выходи…
— Вылазь, козел, из капусты, — вторил ему другой голос.
Как видно, остальные загонщики уже вышли на стрелков, один он тянется.
— Э-гей, Пе-еркон!
Но вот и он, перепрыгнув через канаву, шагнул из леса на дорогу.
— Взяли?
— Держи карман шире!
— Кто ж это поднял такой тарарам?
— Краузе вон упражнялся в стрельбе по летающим тарелкам. Мазила классный!
— Вот черт, я уж думал — тут уложили целую стаю.
А Краузе с несчастной миной оправдывался:
— Да это дьявол, а не сохатый, честное слово! Я шарахнул точно — по крайней мере, два первых… А он чудно так подпрыгнул и в один миг…
— …растаял в воздухе, как святой дух! Даже дерьма, гад такой, тебе на память не оставил!
На снегу ясно просматривалось, куда лось шел и как прыгнул, так что отпечатки копыт подтверждали слова охотника, но это и все. Краузе прошел по следу еще немного и через несколько минут вернулся: крови не было.
И люди, помаленьку приходя в себя и остывая, рассуждали о том, что лучше уж так — лучше чистый промах, чем подранок, по крайней мере бумаги в порядке и душа на месте. И те, у кого были в куртках, в нагрудных карманах фляги, свинтили колпачки или вынули пробки и нацедили и себе, и товарищам — успокоить сердце и нервы.
— А где же собака? — вспомнил один, так как Морица все еще не было. — Мориц! Мо-ориц!!
— Да что Мориц, переметнулся на зайцев, — сообщил Вилис, вспомнив нежданную встречу, когда косой мчался прямо на него, а он стоял столбом, замерев в страхе не страхе, как бывает в бреду, когда не поймешь, чему верить и чему нет, хочешь бежать, а шагу сделать не можешь. Но об этом казусе он не обмолвился и словом. Ему не то что рассказывать, а даже вспоминать об этом не хотелось и подавно уж — слышать, как другие смеются. Он не мог бы сказать почему, но не хотелось.
— Мориц…
Явился! Весь в мыле, язык до земли, ах ты язва сибирская, шалопай, бродяга! Раз нету доброй собаки — не надо, а с этой шельмой что остается делать — стереть в порошок, и все тут, ведь даже хорошая порка такому балбесу много чести, ей-богу.
А шельма и язва сибирская, малость, правда, сконфуженный, однако не сознавая размеров грозящей опасности, вилял хвостом и ко всем ластился, предусмотрительно обходя Краузе, который злился и негодовал на собаку больше других, хотя Морица, вообще говоря, нельзя было винить в том, что Краузе промахнулся. Тем не менее пес, слабо понимая странную логику человека, больше полагался на чутье, и оно его не подвело.
— Все перемелется, — мирно сказал Вилис и налил сперва Краузе, а потом себе. Глоток водки проскочил, обжигая грудь как раскаленный свинец.
Эх-ма!
Сразу прибавилось бодрости и захотелось есть. Оно и правда, все перемелется — мука будет. Еще по единой? Можно. Мы стрелять не разучились, мы еще свое возьмем… Так Вилис и сказал Краузе, наливая по второму шкалику на брата и нимало не подозревая, как близок в действительности этот час. А знал бы — не стоял бы, наверное, так спокойно, не наливал бы так бестрепетно, твердой рукой, которая ничуть не дрожала, не стал бы гладить скользкую шерсть Морица…
А что бы он делал?
Что делал бы Вилис, знай он заранее, что произойдет еще прежде, чем над этим ослепительно ярким зимним днем сомкнется ночь? Старался бы помешать, что-то изменить или, напротив, отдался бы на волю волн — будь что будет? А пока он поднес наперсток к губам, и второй глоток тоже проскочил, как: и первый, — обжигающе горячий, как расплавленный металл.