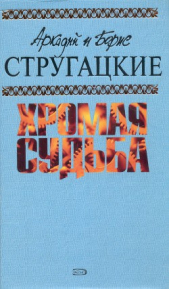Собрание сочинений в трех томах. Том 3

Собрание сочинений в трех томах. Том 3 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Г. Н. Троепольского вошли повести «В камышах» и «Белый Бим Черное ухо». Публицистическое и драматургическое творчество писателя представлено очерком «О реках, почвах и прочем», пьесой «Постояльцы». В том включен также киносценарий «Земля и люди».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы с Захаром Макарычем высунули головы из палаток.
Дождь шел со снегом! Ветер неистово рвал камыши и шлепал водой о челноки. А на озере… качались на волне три стаи уток. На наших глазах опустилась еще одна! В такой чичер утку прижало к земле, она садится на отдых смело.
Не сговариваясь, мы напялили плащи, спустили палатки и выбрались из камышей. Волна подхватила меня и Захара Макарыча — нам по ветру плыть, — а Иван Васильевич довольно искусно пошел вдоль камышей против ветра, на свое место. Утки немедленно снялись, но Захар Макарыч успел-таки «схватить» одну на подъеме. Я, признаюсь, промазал — очень качало челнок.
При такой погоде, когда и днем сумерки, вечер наступил сразу. Но и в полутьме утка шла и шла, хотя стрелять уже было нельзя.
Зато в кромешной тьме против ветра мы с Захаром Макарычем попотели. Он то и дело окликал:
— Плывешь?
— Плыву!
Через некоторое время кричал ему я:
— Живой?
— Живой! — откликался он весело.
К Ивану Васильевичу мы подъехали «все в мыле». Но что это за трудности, если имеем за две зари двадцать три штуки уток на троих. Мы попали на последний вал пролета. Вполне удовлетворительно, если принять во внимание, как мы скисли утром.
— Вот что значит верить в удачу! Все начинается с надежды! — встретил нас Иван Васильевич, высунувшись из палатки.
Он уже успел натянуть ее как барабан, устроился по-хозяйски и в непогодь: с обеих сторон он закрепил челн суховилкой и веслом, воткнув их и связав сверху. Он положительно все умел делать: пахать, косить, молотить, работать на тракторе, учить студентов, писать книжки о грибах и охотиться.
— Надежда горы воротит, — поддержал Захар Макарыч, совсем забыв, как он ныл в тумане и проклинал паучков. — Не будь надежды — не было бы охотников на земле.
Устраивая челнок на ночь, надо было торопиться: дождь нахлестал в лодку — надо отчерпать, вновь положить на дно уже сырой камыш и быстро натянуть палатку.
Но вот все сделано. И только тогда мы поняли, что «спокойной ночи» никто из нас уже не скажет. Рукава мокрые, плащи мокрые и стоят колом; снизу, у дна, холодно от сырости. В таком случае остается один выход: вниз, под себя, меховую шубейку, сверху, на себя, ватник, а дверь палатки — на все пуговки. Плащ уже ни к чему — он лежит колом сбоку, в ногах.
Из своего логова Захар Макарыч спросил, как из-под земли:
— Запечатались?
— Под сургуч, — ответил Иван Васильевич. — Что будем делать?
— Лежать будем, — откликнулся и я под шум ветра и дождя.
— А до каких пор?
— До утра, если дождь не перестанет.
— А потом? Останемся или — домой?
— Утро вечера мудренее, — ответил Захар Макарыч. — Что-то мне кажется, на мороз тянет.
— А дождь идет? — возразил я.
— Ну и что ж, что дождь? В снег перейдет да как рубанет на всю катушку — кости захрестят. Было же такое? Было.
Голоса их слышались будто издали.
Не прошло и получаса, как Иван Васильевич снова пробубнил:
— Ужинать-то будем? Я бы не против. Очень даже не против.
— Будем, — ответил Макарыч. — Маленько подождем: может, дождик перестанет.
— Успеем еще, — сказал я. — Ночь-то будет длинная-предлинная — больше шестнадцати часов.
Все вышло пока по-нашему: дробь дождя становилась все тише и тише, и наконец и совсем перестало барабанить.
Мы «распечатались». Холод ворвался в палатку. Дрожко.
Захар Макарыч уже шумел у себя примусом, тоже приоткрыв застежки — у него теперь жарко.
Закусили малость, но чай пили с напором, до второго пота, пока опустел чайник.
И снова «под сургуч».
Ночь была долгая. В такую ночь отчетливо чувствуешь дыхание зимы. Она где-то рядом и может появиться неожиданно, в любой час, как снег на голову. Точная пословица: более неожиданного, чем первый снег, ничего не может быть в природе. Очень даже просто: встанем утром, а кругом белым-бело.
Но ветер помаленьку утихал.
Притеплившись и съежившись калачиком, я высчитал дни после первого зазимка и пришел к тому же выводу: зима у ворот.
Зима, зима… Постепенно мысли перешли в прошлое.
Осень сейчас в природе. Осень и в моей жизни. Весну свою я помню хорошо — трудная весна. Лето помню. Но… ладно, не надо никаких «но». Все ведь прошло…
А осень — вот она… Всю мою жизнь можно назвать просто: жизнь в поле…
…То были совсем не грустные мысли. Наоборот, в ту глубокую и черную осеннюю ночь радовался тому, что понял: я такой же, как Захар Макарыч, Василий Кузьмич, Петр Михайлович и многие колхозники. Пусть хуже их, но с ними на всю жизнь, а моя тень мало заметна для других и вполне соответствует росту.
Услышав, что доцент повернулся в лодке, я спросил:
— Не спится?
— Нет.
— Холодно?
— Нет, согрелся… О чем думаете, Тихон Иванович?
— О прошлом. А ты, Вань, о чем думаешь?
— О будущем.
— И что же там, светлая голова?
— Хорошо!.. А что у вас в прошлом получается?
— И очень и не очень. Все есть.
Захар Макарыч, доселе молчавший, видимо, прислушивался к разговору и внес свою лепту в разрешение этого вопроса:
— Культ-то умер. Да вот… как бы это сказать… культята есть. — Иван Васильевич рассмеялся, я — тоже. Но Захар Макарыч продолжал с напускной обидой: — Чего смеетесь? Не бричка мучает попа, а мучает попа чека. Думаете, культа нету, то и переметовых нету? Ведь это его зацепило боком, он и свалился спервоначалу. А другого, может, не зацепило. Куда его денешь?.. А вы: «Ха-ха!» Тоже мне комики… Куда ты его денешь? Должность-то ему надо давать? Надо. Он без должности захиреет. Он же ничего не умеет делать. А вы: «Ха-ха!»
— Да мы, может быть, с вами согласны, Захар Макарыч, — сказал сквозь смех Иван Васильевич.
— Если так, то это еще ничего, — пробурчал Макарыч. — А то: «Ха-ха!» А чего «ха-ха» — не сразу поймешь. Лет бы двадцать назад дал бы я тебе сгоряча подзатыльник, — только зубки бы щелкнули… А теперь тебя не ущипнешь, Ванятка.
Так за эти двое суток он называл его то Ваняткой, то Иваном Васильевичем, то снова Ваняткой. И все получалось просто.
…А ночь все тянулась и тянулась. Длинная осенняя ночь. И чего только в это время не передумаешь, чего не вспомнишь, о чем только не переговорят охотники, когда ночь не движется, а, кажется, висит черным пологом без конца и без края.
Но как бы там ни было, а в палатках мы надышали тепла, пригрелись и замолкли в ожидании далекого утра.
…С шумом пронеслись над камышами «белопузники». Снова — они же. Еще раз. Одна и та же стайка кружила в облете над озером, каждый раз прошумев над палатками. Я высунулся наружу.
Захар Макарыч уже стоял на передней лавочке. Видимо боясь разбудить доцента, он полушепотом сказал мне:
— Попали мы, Тихон Иваныч, башкой в развилку.
Не сразу я сообразил, в чем дело.
— Видишь, утка не может сесть?
— Вижу.
— Пощупай за бортом.
За бортом был лед — челноки вмерзли в камышах. Палатка покрылась коркой, и на ней белела изморозь. Под лучом фонаря мы увидели: лед блестел и на озере. Все сковало!
До утра оставалось еще часа два.
— Пожалуй, надо нам, Захар Макарыч, выбираться, пока лед не стал толще.
— Пусть поспит, — прошипел он, указав на челнок Ивана Васильевича. — Ночь-то почти не спали…
Так отец, собираясь в поле, жалел и меня — не будил пока. Он сам укладывал на телегу соху, борону, корм, подмазывал колеса дегтем, насыпал семена. И только после этого, когда совсем уже рассветет, расталкивал: «Вставай. Пора ехать. Ишь дрыхнет, как сурок… Вставай, вставай». Помню, как спросонья садишься, бывало, на телегу и некоторое время еще клюешь носом, пока не проснешься совсем уже в пути и не поймешь, что ласка отца в его напускной строгости.
— Пусть поспит, — согласился я и перешагнул в челнок Захара Макарыча.
Там уселись мы бок к боку, засунули руки в рукава шубеек, опустили лопухи треухов и зашептались:
— Деловой, — говорю, — доцент, а?