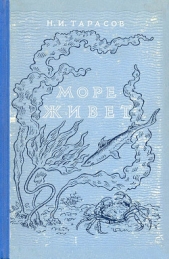На заре и ясным днем

На заре и ясным днем читать книгу онлайн
В книге прослеживается биография первого в стране комсомольско-молодежного совхоза «Большевик». Это героическая биография народа, его история, его судьба. Первая борозда в совхозе была проложена 22 апреля 1931 года — в день рождения В. И. Ленина. Вся дальнейшая жизнь совхоза свидетельствует о мужественной борьбе за урожай, творческом труде, больших и добрых устремлениях работников совхоза, сделавших свое хозяйство одним из передовых в стране.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Видел я Сергея Григорьевича на фотографии в районной газете. Лицо его видел: сосредоточенный взгляд, волевое выражение. Богатырь! И вдруг на самом деле оказался Сергей Григорьевич человеком весьма невысоким и худощавым. Сплошное противоречие. Любопытная деталь: обычно флегматики вялы и неразговорчивы, а сангвиники и холерики, наоборот, энергичны, словоохотливы. Сергей сангвиник. Моторность в нем необычная. Он сам рубит проволоку, роет ямы, ставит столбы (зачем бы это ему, главному энергетику?). Резок, суетлив, подвижен и… неразговорчив. Молчун редкий. Как сказал потом Володя Асямолов, «он говорит больше только после бани: попарится хорошенько, и, видимо, язык тогда у него маленько размякнет».
Григорий Тимофеевич любит своего питомца:
— Он все время что-нибудь да мастерит! Вот зайди к нему сейчас, застанешь над каким-нибудь чертежом.
— А я ведь и зайду, — ловлю на слове директора, — и не «как-нибудь», а прямо сейчас.
— Погоди, сначала позвоню к нему на квартиру, — останавливает меня Григорий Тимофеевич.
Из трубки пропел тоненький голосок: «Але…»
— Позови папу, — пробасил Хохлов.
— А папу нельзя позвать, папа спит…
Вот тебе на! Времени половина одиннадцатого, идет уборка, а «папа спит»!
Потом я рассказал об этом Володе Асямолову, главному агроному и секретарю комсомольской организации, по дороге в Шумиху, и он объяснил мне:
— Ничего тут нет странного, все на месте. У Подкорытова же такая работа. Его в ночь, бывает, по два-три раза поднимают то на ток, то на ферму, что-нибудь да стрясется. Хоть машины и железные и служба электрическая у него отлажена, но страда есть страда и люди на том же току не все специалисты — всякое бывает.
Вот он на всякий случай и решил немножко соснуть.
Получилось как-то так, что не видел я его, главного агронома и комсомольского секретаря, до самого своего отъезда из Крутых Горок. Вот и уезжать уже собрался… А повидаться надо обязательно. Но где поймать: с утра Володя уезжает в поле и возвращается только поздно вечером. Ищи ветра в поле! Уговорил я Григория Тимофеевича помочь «изловить» Асямолова. И вот встретились мы с ним в конторе. Захожу к нему в кабинет.
Сидит за столом молоденький светловолосый парнишка. Глаза красные, веки тоже покраснели. Держит телефонную трубку и с кем-то этак спокойно и даже, как мне показалось, с удовольствием переругивается.
Времени у него опять не оказалось: надо срочно спешить в Шумиху. Володя неделю назад стал папой, сына повидать едет, Люду, жену свою, обрадовать хочет.
Мне как раз в Шумиху надо добираться, и мы поехали вместе на директорском «газике». Володя за рулем, я рядом.
Дорогой Асямолов делится своей радостью, а скорее всего не может таить ее в себе:
— Сын у меня родился. Слышали, наверное?
(Интересная штука: почему-то каждому молодому папе, когда у него родится сын, хочется, чтобы об этом знали все.)
— Сын у меня. Первый… И сразу вот сын… Только не вовремя, надо было бы подождать ему появляться на свет, пока уборка кончится: а он вот взял да и объявился.
— Так видел ли ты его хоть сам-то?
Улыбается довольный.
— А как же… Показали издалека. Правда, я ничего не разобрал тогда. Люда показывает его, шумит в окно: «На тебя похож!» Неужели, думаю, я на него в самом деле похож?
А потом Володя расскажет, как приживался он здесь, на сибирской земле, как сходился с людьми, как форсировал пропасть между академическими знаниями и практикой, как уговаривал молодую жену не торопиться покидать Крутые Горки.
— В общем, — подытожил он свой рассказ, — жил почти полнокровной жизнью…
— А в город не тянет? — задаю провокационный вопрос.
Володя помолчал, глядя на бегущую под капот дорогу, и вздохнул:
— Тянет… Иногда тянет.
Остановил машину: «Что-то натрясло, покурите на воле».
В степи было тихо. Далеко, у горизонта дрожит белым озером марево, стелется над теплой землей серебристый ковыль. Тихо. И вдруг запел жаворонок. Володя задрал голову и ловил его взглядом. Увидел и замер. Потом повел рукой вокруг:
— Разве от этого легко уехать?..
Вот и снова покидаю «Большевик». Знаю, что вернусь сюда еще не один раз. Вернусь, потому что привык к этим трудолюбивым и веселым людям. Так я тогда и Григорию Тимофеевичу обещал. А он на прощание крепко, прямо до хруста в пальцах, пожал мне руку и сказал спокойно, но твердо:
— Не беспокойся, не укатают нас Крутые Горки…
И ведь не укатали-таки Крутые Горки хлеборобов!
Спустя время я узнал, убедился в этом лично, когда я снова встретился с теми, о ком писал, с кем вместе горевал, когда ахнул не ко времени снег, с кем мотался от комбайна к комбайну.
Вот и снова в Крутых Горках. И не узнаю знакомой деревни — тут вон, рядом с совхозной конторой, новый дом каменный вырос и заселен уже, другой до венца подведен, из степи телятники новые весело поглядывают на центральную усадьбу. И радуюсь — в гору, в гору катят Крутые Горки!
Все хорошо, и вот, как и в тот раз, опять что-то незримое и неладное надвигается, чую.
И это неладное на этот раз — жара. Такую жару, такую сушь я пережил, пожалуй, только в Туркмении. Но ведь то юг Средней Азии, полупустыня. А тут Сибирь — и на тебе! +35 — +38 градусов в тени. Больше того, до сорока доходило и за сорок зашкаливало!
Пшеница уже высоко поднялась, густая, зеленая пока, но возьмешь на ладонь побеги, а они теплые — теплые и вялые.
Вот ведь напасть какая? Не выпади на неделе дождя, пожелтеет она и ляжет на горячую сухую землю.
Поздно вечером где-то за Шумихой глухо загромыхало. Край неба полосовали косые молнии. Но что-то держало их там, на расстоянии, не пускало сюда.
Стало душно. Уснуть в такой духоте почти невозможно. Спасался только тем, что смачивал под водопроводным краном простыни и ложился на мокрое и прохладное. Однако через два часа они были уже сухие.
Утром чуть посвежело, появились тучи, но гроза так и обошла Крутые Горки.
Люди жили ожиданием дождя. И больше всех, пожалуй, переживал главный агроном.
Вечером, вернувшись с работы, Асямолов, не умываясь, устраивался на крыльце. Приходил Иван, сосед. Садился рядом, закуривал. Дымил папиросой. Потом вставал и, не сказав ни единого слова, тяжело брел к калитке. Уже собираясь закрывать ее, поворачивался к Володе и с безнадежностью в голосе негромко спрашивал:
— Ну чего-нибудь слышал?
Владимир поднимался, махал рукой:
— Слышал, в Москве сегодня утром, передавали, дождь шел.
— Да, — глубоко вздыхал Иван. — А что наш пророк Дьяков обещает?
— Наш пророк молчит. И его, видно, погода с панталыку сбила.
Притихли даже всегда шумливые ребятишки. И Нина, маленькая дочка Асямолова, приходила домой со своих игр раньше обычного, садилась рядом с бабкой на крыльце и спрашивала:
— Баб, а ты чего все туда да туда смотришь?
Бабка гладила внучку по голове и ласково объясняла:
— А там Дубровное и есть.
— А почему в Дубровное смотришь? — не унималась внучка.
— Вот если придет к нам дождик, он как раз с той стороны появится.
В те дни даже окна домов, казалось, глядели только на Дубровное.
Тяжко было в те дни, что и говорить. Люди приходили в партком. Спрашивали советов, пытали про сводку погоды.
А как там настроение у Хохлова, думаю.
Когда я вошел в кабинет, Григорий Тимофеевич сидел за столом и пил квас. В одной руке он держал стакан, в другой мокрый носовой платок. Все такой же добродушный и грузный. Только волос чуть рыжее стал, как сгоревшая на солнце солома. Все такой же богатырь.
— Не похудел? — спрашиваю.
Улыбается довольный: — Нет вроде. Был по весне в санатории, не тощее других. — Продолжает довольный: — За столом нас там, в санатории, четверо сидело, все под стать друг другу. Только один мелкий затесался к нам, маленько заморенный был — он 115 весил, а мы по 140 килограммов.