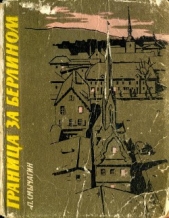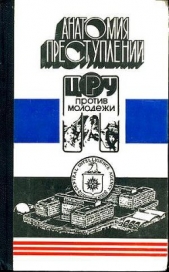Мой рабочий одиннадцатый

Мой рабочий одиннадцатый читать книгу онлайн
Повесть о школе рабочей молодежи на Урале в наши дни. В книге показаны характеры и судьбы молодых людей, занятых в самых разных отраслях производства, их взаимоотношения, роль учителя в воспитании молодежи.
Сыну, старшему лейтенанту
Николаю Николаевичу Никонову
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Девочка-девочка... Ничего-то ты такого не понимаешь, прост, наверное, и ясен твой мир, спокойна твоя душа, не знаешь, не ведаешь, как устал я быть один на один со своими мыслями и как бывает мне по ночам, когда слышишь только ход времени... Что же в тебе такого, девочка, что вот так остановило и опешило, а миллионы прошли мимо, не задев ничем, не оставив ничего...
Забыть бы все — и этаким улыбчивым солнышком: «Здрасте. А где это я вас видел? Хорошая погода, правда?»
Вот она посмотрела не то на трамвай, не то на меня, синеватый глазок кольнул крохотной искоркой, и опять только профиль с равнодушным носиком. Полное безразличие. Одно радует: что-то много трамваев пропустила девочка (и я тоже), прошли уже, кажется, все номера. На каком уедет она? А вдруг она тоже ждет? Не может быть. Нет, конечно... Вдруг и она меня знает и даже помнит? Вот посмотрела на часы. Маленькие такие часики и не модные уже, наверное, папа купил ей в шестом классе...
Трудно угадать мысли девочки, когда она смотрит на часы, да и смотреть на часы можно по-разному. Стою. Жду. Чего? Не знаю. Все трамваи пропустил. Вот последний. Не последний, конечно, вообще, а в том смысле: не сядешь — опоздаешь на работу. Не поехать? Объяснения с администрацией. Неприятность. Потерянный урок. То-се.
А причина? Глупо. Да-с. Еду вот. Нет, теперь не опоздаю... Тяжелый вздох. А девочка осталась там. И как знать, может быть, может быть, это самая большая жертва, которую я принес школе, и самая большая моя потеря. Никто не знает. Не знаю и я. Только чувствую. Интуиция... Интуиции всегда не доверяют, а потом плачут, каются, кусают локти... Ну, ну! Что это? Уж не ревешь ли?
— Выходите?
— А? Нет.
— Так подвиньтесь хотя бы! Растопорщился!
Раздраженное туловище вминает, притискивает меня к поручню сиденья. Женщина пыхтит, упирается, наконец переваливается. Пролезает, этакая медуза, напоследок гневно тычет локтем, А я-то при чем? Сам из-за нее придавил какого-то дяденьку, и он обиженно кряхтит. Неужели девочка станет потом такой вот толстой гневной бабой в сбившемся платке? Девочка осталась. Когда подкатил мой трамвай, я, должно быть, ужасно беспомощно оглянулся на нее, шагнул к вагону, и она словно сделала робкое движение, даже сердце у меня забилось сильнее. В сущности, я ведь, наверное (не знаю, не знаю), и ждал того, чтоб она села со мной в один вагон, и тут уж у меня бы развязался язык, и я спросил бы, где ее видел. Но она не поехала, осталась, и затухла моя радость. Так чаще всего и бывает в жизни. Коротка радость. А ждешь ее, ждешь, ждешь... Поднялся по ступенькам, пробился, подпираемый сзади нетерпеливыми руками и плечами. Сквозь незакрытую дверь видел на мгновение розовую шапочку, недоуменный, как бы обиженный глаз. А может, показалось. Закрылись двери. Еду вот. Еду. И трудно мне. Хоть хорошо знаю — это проходит. Это проходит. И есть еще слабенькая надежда — авось встречу, авось увижу, буду ждать на той же остановке. Смешная надежда? Знаю — никого я не буду ждать. Некогда мне... Детство... А все-таки утешила надежда, утешило междометие «авось»...
Теперь все ближе школа, мелькают последние остановки, редеют пассажиры. Здороваюсь с нашей библиотекаршей. Она тотчас начинает рассказывать про мужа и про детей. Пусть рассказывает. Дакаю невпопад. Молчу. Все равно рассказывает. Запомнила ли она меня? Нет, не библиотекарша, а та девочка... Может быть. Конечно. Ведь стояли рядом чуть не полчаса. Ну где я ее все-таки видел? «Да-да! Да... Скажите пожалуйста... Такой одаренный? Как интересно... А что, ваш муж любит кататься на коньках?» — «Ой, что вы, что вы? Ведь на катке же голову сломят... Нет, мы на лыжах, на свежем воздухе. Так здорово, знаете, так здорово... У дочки щеки — просто розы... Не опоздаем ли мы? Готовила обед, муж только пришел, усадила их, салфеточки, а сама — бегом...» — «Да-да... пора выходить».
Вагон клонится, скрежещет, заворачиваясь на кольце. Пора превращаться в классного руководителя, менять себя на Владимира Ивановича. Что такое Владимир Иванович? Это еще «молодой человек». Впрочем, так говорят и моложавым сорокалетним, рост — повыше среднего, плечи — ничего себе, волосы — хуже. Это у меня наследственное. Пожалуй, к сорока облысею, и уж никто тогда молодым человеком не назовет. Говорят, надо стричься наголо и поливать голову кармазином, из синего пузырька. Пробовал. Толку мало. Костюм у Владимира Ивановича вполне приличный, преподавательский, серый, в мелкую неясную клеточку, ботинки еще не сношены, рубашка коричневая, капроновая, галстук солидный, пальто польское демисезонное, шляпа (надел сегодня, носил кроликовую шапку под ондатру) чешская, с короткими полями. Вот и все. А, забыл. Лицо у Владимира Ивановича скорее худое, чем полное, внимательное, когда Владимир Иванович говорит с администрацией, рассеянное, когда смотрит в окно, сосредоточенное, когда объясняет. Руки небольшие, ногти красивые, на них много белых пятнышек, зубы все целые, кроме одного, коренного, но он с коронкой, и его не видно. Вот все это и есть Владимир Иванович, учитель, классный руководитель.
Задерживаюсь на остановке у ларька. Купить сигареты. Да нет же, не курю, не балуюсь. Это я чтобы отстать от библиотекарши, от дальнейшего повествования о муже и детях. Закурить, что ли? Раз уж купил. Эге, какие пьяные... Голова кружится.
От трамвайного кольца прямая, как и шоссе, улица, точнее, асфальтовая дорожка вдоль бетонного заводского забора. Это моя дорога в школу. Когда идешь обратно, в темноте, она лучше: горят лампочки и забор как-то не ощущается своей глухой безотрадностью, хотя все-таки его чувствуешь, и часто приходит мысль: «Будет же, будет такое время, когда не станет этих чадящих, громыхающих пространств, а значит, и заборов — все это спрячется, уйдет под землю, заменится умными бесшумными машинами, а здесь будет просто поле, под чистым ветром будет шелестеть трава, над ней — белейшие облака, и навстречу только улыбчивые голубоглазые атланты и безмерно прекрасные девушки, отштампованные по высшему канону спортивно-стерильной красоты». Так будет, утверждают фантасты, все стремящиеся в сто двадцать первый век и никак не желающие заглянуть вперед лет на десять... А пока из-за бетонного забора сносило едкий серный дым, вполне зримо падала сажа, навстречу шли усталые обыкновенные люди, рабочие, женщины разнокалиберной полноты и стати, девушки с задатками тех же рабочих женщин, парни вполне приличные и парни, похожие на нечесаных девиц, переодетых в мужское. А вдали уже виднелось желтое здание — школа.
Чуть не опоздал. За исчерканной мелом дверью глухо трезвонил звонок. Скорее в учительскую — успеть взять журнал, не дожидаясь выразительного взгляда завучей. Успел. Отдышался за дверью. Иду по коридору. Владимир Иванович. Классный руководитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Обгоняют опоздавшие продавщицы. Какие сапоги у Осокиной! Где она такие достает? Раз Осокина с компанией здесь, значит,в классе «густо». Сапоги скрываются за дверью. Голоса: «Идет! Идет!» Различаю Чуркину, вопли Нечесова, хохот Орлова. Открываю дверь.
А девочка осталась на трамвайной остановке... И в моей памяти...
Да уж была ли она? Девочка в розовой, связанной из пушинок шапочке.
— Здравствуйте... Садитесь...
Ого! Что? Что такое? В классе меньше десятка. Нет каменщиков, ребят из ПТУ, шоферов, нет пяти камвольщиц.
— Что это такое?
— Весна! — говорит кто-то.
(А я-то рассчитывал на свой «успех» в картинной галерее! «Сплотил», называется!)
Наверное, во всех школах рабочей молодежи классные руководители боятся трех слов: МАРТ, ВЕСНА И ЛЮБОВЬ. Еще февраль метет снегами, еще не успело пройти двадцать третье, негласно объявленное мужским праздником, а среди обеих частей общества начинается некое глухое брожение. В магазинах возрастает базарная толчея, взгляды девочек становятся все радостнее, взгляды женщин — все недоступнее, выражение лиц мужчин — все более робким. Раскупаются, к великой радости завмагов, залежи духов и сорочек, идут в ход все пластмассовые анодированные безвкусицы из отдела подарков, как-то: пальмы, орлы, хлебницы, светящиеся башни, — не будь этого праздника, век бы не взяли. И в винных отделах подозрительное оживление, и в парикмахерских с утра безнадежные очереди за красотой. Восьмое марта! Открытки с цветами и даже самые цветы в целлофановых пакетиках. «Тры рубля... Замэчательный... Сывэжи». На каждом углу. Зато в класс хоть не входи. «Контингент» исчез. Теперь не действуют никакие меры. И так целую неделю в самом лучшем случае.