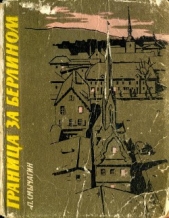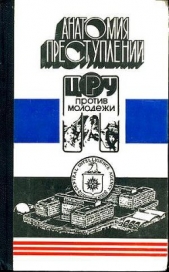Мой рабочий одиннадцатый

Мой рабочий одиннадцатый читать книгу онлайн
Повесть о школе рабочей молодежи на Урале в наши дни. В книге показаны характеры и судьбы молодых людей, занятых в самых разных отраслях производства, их взаимоотношения, роль учителя в воспитании молодежи.
Сыну, старшему лейтенанту
Николаю Николаевичу Никонову
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перед фрагментом левитанской «Владимирки» стояли в молчании. Ничего я не объяснял, только спросил у сосредоточенной Чуркиной:
— Хорошо?
Вздохнула, светлея, дернула губами и провела по щеке большой ладонью.
— Очень... Ну, сказать невозможно...
— Это как у нас... За дальней околицей, — добавила стоявшая рядом Задорина. — У нас, как выйдешь со станции, тоже дорога... И пусто все — поля... Это когда я летом к бабушке ез...
— Да тихо, ты! — с досадой сказала Чуркина и еще смотрела. Лицо Тони было грустно, глаза пасмурны, и вся она похорошела удивительно. Такой я ее еще никогда не видел. Чудо ты, Чуркина... И, оглядывая всех своих, я опять подумал: да нет же, никуда не делась Россия. Вот она, в лицах потомков: Столяров, Горохова, Чуркина, вот Алябьев и вот Задорина... И Нечесов. Все это Русь...
...Очень понравился портрет князя Голицына — шедевр галереи, работа Брюллова. Какой изощреннейший царедворец, вельможа и льстец, хитрец и умница с тенями древнего рода на лысом челе глядел из темной рамы насмешливыми глазами! Как чисты были краски! Шелковисто мерцало сукно мундира, мягко светилось золото орденов: звезда Александра Невского и тот же Андрей Первозванный. Вся трудная история рода глядела, усмехалась, припоминала. И опять я принялся объяснять историю Голицыных, но мне помешала гидша.
Оттеснив нас на правах первородства и служебной причастности, она быстро сказала, что «портрет — замечательный образец искусства начала девятнадцатого века», что «изображен здесь помещик-крепостник, яркий представитель господствовавшего класса феодалов. Смотрите, какие у него руки. Такие руки привыкли только держать вилку и тасовать карты». И, победно глянув на меня, она потянула свою группу дальше. Школьники, однако, оглядывались, усмехались. Не такие-то они и провинциалы. Вообще сейчас провинция исчезает, и быстро... Обнаружил, что мои знают Брюллова. Знают Горохова, Алябьев, Нечесов. «Гибель Помпеи. Статуивалятся... Всебегут...» Столяров же и вовсе не был новичком в галерее. Ходил он с Гороховой, подводил к лучшим картинам, объясняя, улыбался, сиял, выбирал изюминки. Странная была пара: маленький, щуплый Столяров и крупная, на полголовы выше, плотная и стройная длинноволосая дева. Мальчишки-школьники все оборачивались в ее сторону. Хмуро, сам по себе, бродил Нечесов. Не влюбился ли и он в Горохову? А может, в Чуркину? Нет, ни на Чуркину, ни на Горохову он не глядел...
И снова перемещались по залам, смотрели закаты и рассветы, нищие избы под нахлобученной соломой, голодных подростков, отданных в учение, птицеловов, сапожников, бобылей, рязанских баб, розовых купчих, нагих купальщиц, кисейных барышень...
Как мог объяснял содержание, пытался и смысл раскрыть, но получилось вяло: то ли весь пыл извел на историю, на Павла с Екатериной, то ли просто устал, злился — почему не подготовился, выдаю себя за знатока, а они, ученики, все понимают, делают вид, чтоб меня не обидеть. Вот тебе! Помни! Не надейся на авось... Учитель никогда не должен играть в знатока — он должен знать...
Последней из значительных картин была васнецовская «Витязь на распутье». Авторское повторение той, знаменитой... Вроде бы поновлена, краски свежи, светятся — или писали они, великие, так, что не жухла краска, не гас цвет. И у Брюллова ведь так же. Картину приняли сразу. Известная. И во мне что-то опять ожило — пустился излагать житие Васнецова, связал сюжет с былинами, сказками, с русской стариной, назвал другие работы — знают. Обступили. Картина в самом деле прекрасна. Хороша. Страшна. Дикое поле. Ветер. Заходит мгла. Кроет даль синевою. И неведомо — что впереди? Кричат вороны, грозят камни, как черепа погибших, смотрят каменными глазницами. Витязь опустил копье. Согнулись плечи, облитые кольчугой. Конь вещий устрашился, клонит голову, косит глазом: «Назад! Назад...» Знает конь... Знает... «Как прямо ехати — живу не бывати... Нет пути... Ни проезжему... Ни прохожему... Ни пролетному...» — прочитал письмена.
— О-о, — вздохнула Лида.
— Страшно... — Чуркина.
— Дачострашното? Сказка!
— Молчи... Кулема. Ска-зка. Это... Ну жизнь. Видишь — подъехал, и надо решаться... А что там? Не знает. И у каждого так в жизни. Сказка! Понимать надо...
— Яипонимаю.
— Понимаешь — не тараторь... Ботало!
— Вот действительно: о чем он задумался? Ну-ка? — Я указал на картину. — Зачем он тут?
Углубились. Молчали.
— Можно? — Задорина вся в румянце, глаза полыхают. — Может, он невесту ищет... Или семью... — еще больше заалела.
— Да-а уж! Невесту! Все бы вам невест. Старый он. Не видишь? Какая ему невеста?..
— Никакой он не старый! Бороду тогда все носили. Может, унес у него невесту Кащей, а он ищет. Все ищет ее... Потому что — любит... — ярко взглянула на меня. — Если не может забыть? Если свет ему не мил? — Задорина замолчала.
— Как вы думаете, поедет или повернет назад? Вот ведь и конь задумался. И кости там лежат. Коню тоже выбирать.
Опять молчали. Самое трудное — решить-отгадать мудрую мысль художника. И все мы вошли в это поле, стояли позади витязя, слышался нам шорох травы, карканье воронов и запах коня. О, неизвестность! Как часто озадачиваешь до немоты и надо решаться: бежать ли, трусливо оправдывая себя благоразумными сомнениями, успокаивая ноющую совесть, или же намотать поводья потуже, поднять копье и — послать своего коня туда, через камни и страхи, через карканье воронов и советы осторожных — вперед, где ждет неведомое зло.
— Поедет он, — глухо сказал Столяров, наткнувшись коротким взглядом на Горохову.
— Поедет! — эхом отозвалась она.
— Я вот не сомневалась. Ну и что? Ну, задумался. Ну, страшно... Конь чует. А рука-то, посмотрите. Ведь рука-то сейчас подымет бердыш (откуда она знает это древнее слово?), и щит он повернет на грудь. И поскачет. Ну, ей-богу, двинет коня. Правда.
Чуркина! Чуркина... Удивительное создание! С виду туповатая сердитая деваха, а на поверку как чувствительна, ранима, до чего ясны твои мысли, как остро чувство достоинства и справедливости...
Начал уже удивляться своим «гаврикам». Забавно...
А картины из зала современного искусства большого впечатления не произвели. Не те картины? Не задерживаясь, молча, переходили от полотна к полотну одно другого больше. Мимо паровозов, самосвалов, сталеваров и домен. Нет, не труд, всегда благородно поднимающий человека, не труд, а лишь его приметы, атрибуты труда назойливо лезли в глаза, вздымаясь кранами, бетонными блоками, дымами, башнями и кузовами машин. И это была главная беда такой живописи. На других полотнах, часто огромных — во всю стену, — лица были искусственно ликующие, фигуры поставлены в нужную художнику позу. Праздник заслонял труд и вытеснял человека.
Вот сталевары закончили плавку. Сплошь ликование. Шляпы на затылке.
Вот тракторист сидит за рулем, на шапке цветочки. Точно на свадьбу едет...
Молчали мои каменщики, молчали сталевары, молчали девочки с камвольного, недоверчиво щурилась Чуркина, ребята из ПТУ зевали. Постное лицо Столярова. Презрительное у Нечесова.
— Что это? Невидаль... Плакаты, — указал на огромнейшую картину, где чудовищный самосвал «БелАЗ» высыпал на зрителя бетонные кубы, а в сторонке стояли деревянно рабочие с такими же бетонно застывшими углоскулыми лицами.
— Нравится?
— Не-а...
— Но ведь это работа, труд, рабочие люди.
— Ну и чо? И не похоже нискоко... Только — в телогрейках. На людей не похожи. Набрал кирюшников в гастрономе. Нарисовал... Рабочий-то — человек... А тут чо? Как им сказал — так и встали...
Заспорили было, но спор скоро утих. Стояли у картины «Плавка выдана!». Говорил Алябьев:
— Вот все тут верно и неверно... Печка мартеновская, а стоят доменщики. Это первое. Верно, радость есть, когда металл сварится, пойдет в канаву. Сколько с ним мороки-то. Пробы таскаешь... То... Се... То шлаку много, то сорт не тот... А никто у нас так вот не становится. Некогда. И устаешь в жару-то! Язык на сторону. Никто на канаву не пялится. Ослепнешь. Долго не поглядишь. Идет металл — и добро... Ну, сбегаешь, выпьешь газировки с солью, с ребятами малость потреплешься, и опять работа. Печка-то не стоит. Ей шихту давай. Работает печка, а мы вкалываем. А тут? — Вдруг встал в наполеоновскую позу, оперся на невидимую клюку, точь-в-точь как там, на картине, задрал голову. Захохотали, пошли дальше.