Капитанские повести
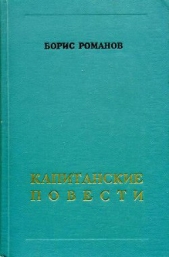
Капитанские повести читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не бойся, это чистый ножик, брат мне привез. Прирежь меня, Витя, если хоть гляну в сторону от тебя и детей.
Не осталось у Вити Конягина этого ножа: выкинул в окошко вагонной уборной, пока ехали от Апатитов, из лечебницы, в Мурманск…
11
Алик Юхневич занял свое место в будочке и сразу затих, а Коля Жилин долго ворочался, умещая то плечи, то ноги.
Алик Юхневич не выдержал:
— Жилин, дай закурить, а?
— Нет.
— Что тебе, жалко, да? Я же видел, как ты сигарету прятал.
Коля молчал.
— Замерзать будем, все равно жать будешь? Один искуришь?
Коля Жилин сплюнул сквозь зубы.
— Разговаривать со мной не хочешь. Думаешь, может, я хуже?
— Закрой камбуз!
Алик испугался или обиделся, сжал тяжелые губы и тоже замолчал. Но тут же он представил себе жаркий судовой камбуз, где раздавались такие упоительные запахи борща по-флотски, что даже теперь Алик почувствовал обычный добрый аппетит хорошо растущего молодого организма.
Это были мамины слова. Алик вырос в семье, где разговоры о работе желудка были основной темой как за столом, так и вне стола. Первым сложным понятием, которое усвоил Алик, были витамины.
— Ешь кольраби, в ней много витаминов, — говорила мама. — Овощи нужно класть в кипяток сырыми, так лучше сохраняются витамины. Григорий, ты опять забыл принести мальчику черной смородины, а ведь в ней так много витаминов! Витамины нужны хорошо растущему молодому организму.
Мама когда-то собиралась стать врачом. Папа был подполковником и служил в какой-то побочной морской организации, названия которой, составленного из невнятно подобранных букв, Алик так никогда и не разбирал.
Алику приятно было слышать, как твердым и звонким голосом папа отвечал по телефону:
— Есть! Понял. Есть!
Потом папа клал трубку и уже по-домашнему говорил матери:
— Вот так. А теперь не спеши выполнить приказание, ибо оно может быть еще отменено.
— Что ты, Григорий, — пугалась мама, — Алик услышит.
— Вырастет, сам поймет.
Алик рос. Когда он дотянулся до десятого класса, стало ясно, что через год его возьмут в армию.
— Вот что, — сказал папа, — служить в армии наша почетная обязанность. Но мы с мамой хотели, чтобы ты стал инженером. Пойдешь в мореходную школу, но запомни, ты должен окончить ее с отличием. Тогда ты получишь производственный стаж и право поступления в любое учебное заведение.
Алик шутя сдал экзамены в мореходную школу и был зачислен на механическое отделение. При составлении списков его фамилию по ошибке занесли в список отделения, готовившего матросов. Алик хотел заявить протест, но в первый же день передумал, потому что мотористов погнали на разгрузку шпицбергенского угля для котельной, а матросов — на уборку багряной листвы в школьном парке.
Учиться было романтично и легко. Алик, как и обещал, учился отлично. Отец с матерью не могли нарадоваться на подтянутого, повзрослевшего сына.
Потом Алик попал отрабатывать производственный стаж на «Арктур».
Былая романтика перевернулась вверх дном и рассыпалась прахом. Работа с грязными и мокрыми тяжелыми цепями и тросами, семичасовое висение на беседке за бортом со шкрябкой в руке, бдение впередсмотрящим на продуваемом всеми ветрами полубаке и даже вахта на руле, когда душу наизнанку выворачивала качка, и отдаленно не напоминали уютное освоение азов морской практики в школьных классах.
Алик потерял былую напористость, и даже говорить стал теми вопросительно-отрицательными фразами со словечком «да?» на конце, какими говаривал когда-то давно, в детстве, противоборствуя маме. Моряки и жалели его, и посмеивались над ним, но Алик не принимал ничьей помощи, а жалость только обижала его. Даже многочисленные прогулы, которые появлялись в табеле рабочего времени против его фамилии после того, как он пытался отказываться от работы или спал на вахте, мало огорчали его: родители неизменно подбрасывали переводы…
— Эй, не спать, не спать, золотая рыбка, иначе замерзнешь. Жила, смотри, ветер стихает, снег мягче. Я фальшфейеры принес, две штуки. Если пароход виден будет, зажги: вот за это колечко дерни. Чего Алька такой печальный?
— Курить хочет.
— Придется потерпеть, золотая рыбка! — крикнул Витя Конягин, подсунул им под бока фальшфейеры, хлопнул Алика по плечу и снова пропал под обрывом.
Алик и Коля Жилин, дрожа, выбрались из будки. Действительно, ветер стихал, уже не хлопала полуоторванная планка на пирамиде, и крупные хлопья мягкого снега густо валились сверху, а не сбоку, как было раньше. Даже мигалка наверху словно бы дальше кидала хлопки света, по крайней мере виднелись сугробы на гребне островка.
Они поприседали, покидали было, как в боксе, руки в холодный воздух, но снег сыпал так густо, попадая на шею и под воротники спасательных жилетов, что, чуть разогрев ноги, они опять забрались в будку, вжимаясь между баллонами и тонкими дощатыми стенками.
Коля Жилин начал массировать пальцы ног, особенно мерзла правая; два пальца ее уже почти перестали чувствовать боль.
Потом Коля уткнулся лицом в колени, и странная, словно облако тумана, холодная дремота стала наползать на него. Ему снилось то, о чем он много раз думал, то, что больше всего поражало его наяву: разбегание Вселенной. То самое разбегание Вселенной, доказанное наукой на основе смещения цветов радуги в свете далеких звезд.
Коле снилось, как далеко-далеко проваливаются в черноту неба кольца самых далеких галактик, как быстро уносятся в разные стороны ближние из них, кружась, словно запущенные с оси игрушечные детские диски, и стремительно уменьшаясь в размерах, вплоть до полного исчезновения; как вслед за ними, подобно дроби, улетают звезды и планеты нашей галактики и мерцание их становится все краснее и краснее; как между звездами и центром всех галактик, островком Дристяной Баклыш, где над сугробами еще мерно вспыхивает мигалка, выдыхая последние глотки ацетилена, вползает до нестерпимости черная темнота, и нет в ней никаких звуков, кроме пронзительного звона холода; как все глуше становится этот звон и уже не во что упереться взгляду широко открытых глаз, — и вдруг вспышка, сплошное зеленовато-голубое сияние, в котором растворяется тело!
— А-а-а! — Коля Жилин боком лежал на снегу, двигая руками и ногами, пытаясь встать и не понимая, откуда же этот крик, и есть ли он на самом деле, и почему все плывет в непонятном голубоватом свете…
12
Старпом, скучая, проследил, как Боря-Вертикал сделал приборку в ходовой и штурманской рубках, отпросился у капитана и уже давно ушел спать; в рубке расхаживал заступивший на вахту третий помощник капитана, а Юрий Арсеньевич все полулежал на диванчике в штурманской рубке, старательно разминая и раскуривая сигареты из отсыревшей пачки.
Временами он вскакивал, кидался к локатору, смотрел пару минут на экран, осведомлялся о глубине под кормой и снова приваливался спиной на списанные лоции. За окном штурманской между раздернутыми занавесками метался снег; весь Поморский залив и наверняка половина моря были охвачены буйным снегопадом, и не верилось, что когда-нибудь здесь опять будет почти круглые сутки светить солнце, закурчавится зелень по островкам и мимо пирамидки на Дристяном Баклыше, по прибрежному фарватеру, побегут длинные плоские теплоходы с веселой беленькой рубочкой на корме, везя железорудный концентрат, лес и апатит. Опять у новой красно-оранжевой бочки будут пересаживаться запаренные работой лоцмана и будут очень спешить с судна на судно, потому что Череповцу нужна руда, без апатита горит план у химзаводов на Волге, а лес адресован Ташкенту; капитаны будут переругиваться друг с другом за опоздание, — и никто не подумает, что на этом перекрестке была по зиме такая заварушка… А где же их не было в море?
«…Н-да… Если они умирать будут, как они обо мне подумают? Неужели скажут: неплохой был мужик, да все некогда ему было добраться до простой человеческой нашей сердцевины… Ведь не скажут же, что мне это было ни к чему?.. А за Юхневича взяться надо, раздавила парня работа. А у меня отпуск тоже горит, пожалуй, так и не обновятся по театрам Ольгины туфли. Или обновятся, но без меня… Чудачка, она им так радовалась, словно высокие каблучки и впрямь приподнимают над обыденностью жизни…»


























