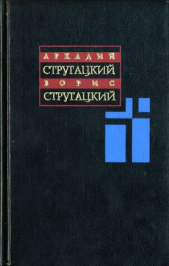Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е

Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е читать книгу онлайн
Первая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. В нее вошли как опубликованные, так и не публиковавшиеся, ранее произведения авторов, принадлежащих к так называемой «второй культуре». Их герои — идеалисты без иллюзий. Честь и достоинство они обретали в своей собственной, отдельно от советского государства взятой жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конец
1958–1960
Генрих Шеф
Диалог
Первый. У меня с детства было благоговейное отношение к дружбе. Я был мальчик послушный и нежный, и когда мне говорили: «Надо быть добрым! Не надо бить тех, кто слабее тебя! Надо со всеми дружить!» — я старался быть добрым (направляя на это свои волевые усилия), не бил тех, кто слабее меня, и со всеми хотел подружиться! Я всегда с кем-нибудь хотел подружиться! Еще в яслях, помню, я приходил домой и жаловался маме: «Мама, мне надо с кем-нибудь подружиться… Мне никак ни с кем в яслях не подружиться…» Мама утешала меня: «Подожди, — говорила она, гладя меня по головке, — со временем у тебя будет все, что ты хочешь, и даже то, чего ты не хочешь». Я не понимал тогда всей глубины ее слов. Они мне казались нарочито-многозначительными и туманными. Иногда мне кажется, что я и сейчас — до сих пор — их не понимаю. Но тогда я, даже не понимая, притихал, успокаивался. «Подожду, — говорил я себе, — подожду… Пройдет время, и все само собой станет лучше…» И хотя время шло и приносило мне в дружбе одни только несчастья, я, сколько бы этих несчастий ни случилось со мной, всегда оставался повернутым к дружбе, был настроен на дружбу, всегда втайне ждал (настоящего!) друга и мечтал о нем, и никогда — ни внешне, в словах, ни внутренне, в мыслях, — не доходил до такого цинизма, до которого доходят иногда некоторые другие, говоря: «Дружбы нет… Дружбы вообще быть не может. Это все выдумали, это обман. Это только слова… Все люди — волки. Все люди друг другу враги…» и т. д. Слыша эти слова, я почему-то радовался, оживлялся, слушал внимательно, и мне хотелось слышать их больше, еще, я какое-то время шел за теми, кто так говорил, — потихоньку, чтобы им не мешать, в пределах слышимости, — но сам в глубине души знал при этом: что вы там ни говорите, голубчики, а дружба-то есть, дружба есть дружба, и я это знаю. И, так подумав, я вдруг заливался краской радости и волнения: вот я какой! вот какой я хороший! Конечно же, я хотел подружиться не потому только, что я был послушный, и вот, раз мне сказали, что надо дружить, то я, вот, и захотел подружиться. Я, скорее, не бил слабеньких больше потому, что мне сказали, что их бить не надо, и мне, хотя я их не бил, так хотелось иногда их ударить, и тут было несоответствие, противоречие внутреннего, меня, и внешнего, того, что мне говорят, и я, когда их не бил, был больше не я, чем я, это были больше они — другие, чужие люди, чужие слова, чужие идеи, — тем более что все-таки, надо признаться, затащив этих слабеньких в какой-нибудь потайной уголок, я их там все-таки бил. С дружбой же было, наоборот, совпадение меня и «не меня». Мне самому хотелось дружить. А тут я еще знал — мне сказали, и все так говорят, — что дружить хорошо. И мне еще больше от этого хотелось дружить! Я воспарял, окрылялся. Слезы выступали у меня на глазах, когда я, замечтавшись, думал о друге, о дружбе: как это может быть хорошо. И мне хорошо, и ему, моему другу, хорошо, и всем хорошо, потому что дружить — хорошо, и хочу я только хорошего, и как это хорошо — хотеть хорошего.
Первый этап — мысли, второй этап — действие. Разглядывая всех, близко ко мне подступавших, приятелей и товарищей, знакомых и полузнакомых, я мысленно оценивал их всех с одной точки зрения: «А вдруг он будет мне друг?» Исходя из этого, в моем первичном, упомянутом выше мягком и нежном детском характере еще больше усиливались эта мягкость, уступчивость, доброжелательность со всеми и перед всеми: еще бы, ведь друга себе можно было ждать со всех сторон, он мог появиться и оттуда, и отсюда, и откуда угодно. Я не любил ссориться, я был настроен не на обрывание, а на продлевание отношений, даже если они сходили на нет и были уже давно бесполезными и бесплодными. Разочарования и несчастья все как-то не разочаровывали меня, и я, переживая несчастье, не считал, что я переживаю несчастья, — все мне казалось, что, пока я не признаю несчастья, я не буду несчастлив, и я подолгу, хотя несчастье уже наступило, не признавал его и не замечал. (Уподобляясь страусу, прячущему голову под крыло и думающему, что его никто не видит?) К тому же я был последовательный оптимист, надеющийся на прогресс, который обязательно принесет будущее. «Не вышло сейчас, — утешал я себя, — так выйдет в другой раз. Если не вышло сейчас, то это вовсе не значит, что не может выйти вообще». И все-таки неудачи оставляли свой след. Я часто подолгу печалился, иногда плакал втихомолку. Ни с кем не делясь, переживая все сам (да и с кем мне было делиться? ведь друга у меня так и не было!), иногда был близок к отчаянию: «Когда же? Когда же?.. Ведь я уже столько живу! Ведь уже бы, пожалуй, пора. Уже самое время! а вдруг это и вообще никогда не придет? Вдруг это вообще не случится? Или случится, да уже будет поздно. Я умру. И так и не дано будет этого мне испытать…» Я становился также отчасти подозрителен к людям, то есть портился мой характер. Но все-таки вопреки этому — вопреки печали, отчаянию и подозрительности — вопреки всему и сверх всего я знал: «Нет, я не умру! Я буду жить! Мне будет дано. Это будет! Это случится!..»
А сколько у меня их было, этих разочарований в дружбе! Второй этап — действие. Это необходимо, я понимал: нельзя оставаться лишь в мыслях и с мыслями, надо делать и действовать. И я делал. Бесхитростно, просто. Самое первое — самый первый естественный шаг, над которым не надо думать, как, скажем, над вторым или третьим шагом, которые надо предвидеть, «провидеть», и которые я тогда, неопытный, провидеть не мог, но и вообще не надо думать, так он легок и прост и так сам вытекает из самого направления мыслей. Я хотел подружиться, и я просто лез — к тому, с кем я хотел подружиться. Я, почти без выбора, так, лишь более или менее чуть-чуть приглядевшись к кому-нибудь из окружавшей меня толпы, на глазок, наудачу (понравились, скажем, красные щеки, или, наоборот, томная бледность, или красивые голубые глаза), подходил к кому-нибудь и прямо говорил: «Я хочу с тобой подружиться. Давай, будь мне другом». Добавляя, правда, при этом из чувства какой-то инстинктивной осторожности: «А я тоже буду тебе другом. Мы будем навечно друзьями…»
Реакции здесь были самые разнообразные, но все они, я понимаю теперь, были не в мою пользу. Были такие — самые откровенные и самые безобидные, — что просто отмахивались: «Не до тебя. Отстань!» — или отмахивались более энергично и, казалось бы, обидно, но, по сути дела, как раз безобидно, ибо вся эта их энергичная выразительность отталкивания, отстраняя меня, была ко мне равнодушна, и они занимались при этом не столько мной, сколько больше собой, а мною — лишь постольку-поскольку: «Отстань, тебе говорят. Ну, чего ты пристал? Пошел вон!» И они, сказав это, убегали прочь от меня, снова занятые своими делами. Другие, говоря то же самое, уже пытались как-то критически меня оценить, как-то ко мне относились, занимались мною больше. «Дурачок, куда лезешь?» — говорили они. Или: «Ну что тебе надо, глупышка?» И опять то же самое, но уже снисходительно-ласковое: «Пошел вон, дурачок!» Третьи вообще молчали, глядели как-то странно, загадочно, мерцая, то сфокусировывая, то расфокусировывая свой взгляд, иногда потуплялись, будто бы я их чем-то обидел, смущенно краснели, иногда подмигивали, будто бы я с ними вхожу в заговорщики, иногда просто почему-то непроизвольно кривились телом или фыркали, утирали свой нос, хотя соплей в нем, однако, не было видно, но главное, они все еще будто бы чего-то ждали от меня, я вроде бы, вот, их заинтересовал, но и не заинтересовал до конца, я уже что-то сделал, но еще и не сделал, и вот они теперь в раздумье, колеблются, они в нерешительности, они все еще ждут. Чего они ждут? Что им еще надо от меня? И чем я их заинтересовал? И если я их заинтересовал, то почему им этого мало? На эти вопросы я никогда не мог себе дать ответа. Разве предложение дружбы уже не должно быть превыше всего, думал я. Выше всяких там раздумий, колебаний, сомнений, оценок и заинтересованности и незаинтересованности! Разве само предложение дружбы не есть уже конец и начало, и обещание и свершение, и ожидание и итог ожидания? Я не мог, конечно, объяснить им это все на словах. Слишком коротки были мгновения такого общения с ними, да это, наверно, и есть такие вещи, которые не объяснишь на словах. Слова не помогут, а только испортят! Да они, по-видимому, и не были расположены меня слушать. Им от меня нужно было дело, а дела с моей стороны все никакого не было. Они ждали. Они колебались и сомневались. И потом, так ничего и не дождавшись, они тоже убегали прочь от меня, оставляя меня стоять одного, почему-то посрамленного и пристыженного, все недоумевающего и раздумывающего: что им было надо еще? Чего я им не сделал? Что я сделал не так? — убегали решительно, быстрые, ловкие, энергичные, причем иногда плюясь на ходу, и это-то больше всего почему-то меня уязвляло. Хотя я и не понимал, чем для меня это плохо, но я на своей детской шкуре все-таки чувствовал, как для меня это плохо. Да, такая во мне поднималась тоска! Ну ладно, думал я, ну, хотите уйти, так идите, черт с вами, раз вы собрались убегать — убегайте, но зачем же плеваться? И я мысленно оплевывал их всех в спину с головы до ног, а иногда позволял себе какой-то робкий и неопределенный осторожный плевок в их сторону, правда, когда их совсем уже не было видно. Правда, один раз с ними у меня вышло немного иначе. В отчаянии, подстегивая себя — что бы мне им еще предложить? неужели я не могу тут додуматься? неужели я так туп? — я однажды, шаря машинально рукой у себя в кармане, нащупал там большой серебряный рубль, который мне уже давно мама дала на кино, а я все никак не решался его истратить, такой он был красивый — и так мне его было жалко, и я к нему так привык, — и я его все хранил, нося с собой и иногда вынимая, чтобы им любоваться. Но тут вот, нащупав в пустом кармане только его, я вдруг навлекся на мысль о рубле, и меня охватило волнение, мне стало страшно, но я и решил им пожертвовать, я вынул этот сияющий рубль и на ладони, стыдясь, глядя вбок, протянул его им. Уже тогда, когда они увидели, что я до чего-то додумался, они оживились, обрадовались, стали больше бодры и внимательны. Увидев рубль, они совсем весело на меня поглядели. Кто-то подмигнул, кто-то прищелкнул языком. Но я уже видел, что все-таки это было не то. Они взяли, да, они взяли мой рубль, но потом опять, молча, от меня убежали, и, хотя я потом еще несколько раз давал им рубли и они всегда брали их, они всегда потом от меня убегали. В конце концов я перестал. Я уже понял бессмысленность тут, да и рублей у меня было тогда не так уж и много: я доставал их с трудом. И всегда я оставался один, всегда они от меня убегали! Я снова мучился. Я переживал и страдал. Вот, может быть, в них-то, думал я, я как раз-то и потерял то, что мне было надо? Я все время думал о них и помнил о них. Но я был бессилен. Я ничего не мог здесь поделать. Что-то зависело тут от меня самого, но все-таки только лишь «что-то», а больше, кажется, — от меня ничего не зависело…