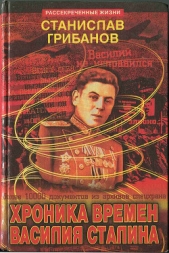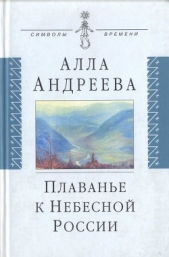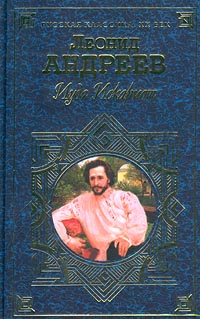Канун
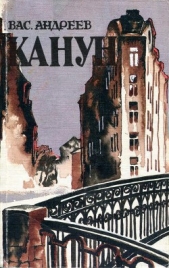
Канун читать книгу онлайн
Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обитатели тринадцатой почти все и жили в чайной.
Ночевали в темной, без окон, комнате.
На нарах — взрослые, под нарами — плашкетня и те, кто позже прибыл.
Комната — битком, все вповалку. Грязь невыразимая. Вошь — темная; клопы, тараканы.
В сенях кадка с квасом — и та с тараканами. В нее же, пьяные, ночью, по ошибке мочились.
Только фартовые — воры — в кухне помещались, с поваром.
Им, известно, привилегия.
«Четырнадцатый класс» — так их и звали.
Выдающимися из них были: Ванька-Селезень, Петька-Кобыла и Маркизов Андрюшка.
Ванька-Селезень — ширмач, совершавший в иной день по двадцати краж. Человек, не могущий равнодушно пройти мимо чужого кармана.
Случалось, закатывался в ширму, забыв предварительно «потрёкать», то есть ощупать карман, — так велико было желание украсть.
Селезень — вор естественный.
«Брал» где угодно, не соображаясь со стремой и шухером.
На глазах у фигарей и фараонов залезал в карман одинокого прохожего.
Идет по пятам, слипшись с человеком. Ребенок и тот застрёмит.
А где «людка» — толпа, — будет втыкать и втыкать, пока публика не разойдется или пока самого за руки не схватят.
Однажды он «сгорел с делом», запустив одну руку в карман мужчины, а другую — в карман женщины.
Так, с двумя кошельками — со «шмелем» (мужской кошелек) и с «портиком» (дамский) в руках — повели в участок.
У Знаменья это было, на литургии преждеосвященных даров.
Петька-Кобыла — ширмач тоже, но другого покроя. Осторожен. Зря не ворует. Загуливать не любит. С фарта и то норовит на чужое пить.
Из себя — кобёл коблом.
Волосы под горшок, но костюм немецкий. И с зонтиком всегда, и в галошах. Фуражка фаевая, купеческая.
Трусоват, смирен. Богомол усердный. С фарта свечки ставил Николаю Угоднику. В именины не воровал.
Маркизов Андрюшка — домушник.
Хорошие делаши, вроде Ломтева Кости и Миньки-Зуба, с Маркизовым охотно на дела идут.
Сами приглашают, не он их.
Маркизов — человек жуткий.
Не пьет, а компанию пьяную любит, не курит, а папиросы и спички всегда при себе.
Первое дело его, в юности еще: мать родную обокрал, по миру пустил. Шмару, случалось, брал «на малинку».
Вор безжалостный, бесстыдный.
На дело всегда с пером, с финкою, как Колька-Журавль из-за Нарвской.
«Засыпается» Маркизов с боем.
Связанного в участок и в сыскное водят.
В тринадцатую перебрались новые лица: Ганька-Калуга и Яшка-Младенец.
Не то нищие, не то воры или разбойники — не понять.
Слава о них шла, что хамы первой марки и волыночники.
Перекочевали они из живопырки «Манджурия».
Калуга «Манджурию» эту почти единолично (при некотором участии Младенца) в пух и прах разнес.
Остались от «Манджурии» стены, дверь, окна без рам и стул, что под бочонком для кипяченой воды стоял у дверей.
Остальное — каша.
Матвей Гурьевич, хозяин трактира, избитый, больше месяца в больнице провалялся, а жена его — на сносях она была — от страха до времени скинула.
И волынка-то из-за пустяков вышла.
Выпивала манджурская шпана. Взяли на закуску салаки, а хозяин одну рыбку не додал.
Калуга ему:
— Эй ты, сволочь! Гони еще рыбинку. Чего отначиваешь?
Тот — в амбицию:
— А ты чего лаешься? Спроси как человек. Сожрал, поди, а требуешь. Знаем вашего брата!
Калуга, вообще не разговорчивый, схватил тарелку с рыбою и Гурьевичу в физию.
Тот заблажил. Калуга его — стулом. И пошел крошить. Весь закусон смешал, что карты: огурцы с вареньем, салаку с сахаром и т. д.
Чайниками — в стены, чай с лимоном — в граммофон.
Товарищи его — на что ко всему привычные — хрять.
Один Младенец остался.
Вдвоем они и перекрошили все на свете.
Народ как стал сбегаться — выскочили они на улицу. Калуга бочонок с кипяченой водою сгреб и дворнику на голову — раз!
Хорошо, крышка открылась и вода чуть тепленькая, а то изуродовать мог бы человека.
Калуга видом свирепый: высокий, плечистый, сутулый, рыжий, глаза кровяные, лицо — точно опаленное. Говорит сипло, что ни слово — «мать».
Про него еще слава: в Екатерингофе или в Волынке где-то вейку ограбил и зарезал, но по недостаточности улик оправдался по суду.
И еще: с родной сестренкою жил, как с женою. Сбежала сестра от него.
Калуга силен, жесток и бесстрашен.
Младенец ему под стать.
Ростом выше еще Калуги. Мясист. Лицо ребячье: румяное, белобровое, беловолосое. Младенец настоящий!
И по уму дитя.
Вечно хохочет, озорничает, возится, не разбирая с кем: старух, стариков мнет и щекочет, как девок, искалечить может шутя. Убьет и хохотать будет. С мальчишками дуется в пристенок, в орлянку. Есть может сколько угодно, пить — тоже.
Здоровый. В драке хотя Калуге уступает, но скрутить, смять может и Калугу. По профессии — мясник. Обокрал хозяина, с тех пор и путается.
Калуга по специальности не то плотник, не то кровельщик, картонажник или кучер — неизвестно.
С первого дня у Калуги столкновение произошло с Царь-бабою.
Калуга заговорил на своем каторжном языке: в трех словах пять «матерей» — Анисья Петровна заревела:
— Чего материшься, франт? Здесь тебе не острог!
Калуга из-под нависшего лба глянул, будто обухом огрел, да как рявкнет:
— Закрой хлебало, сучья отрава! Не то кляп вобью!
Царь-баба мясами заколыхалась и присмирела.
Пожаловалась после своему повару.
Вышел тот. Постоял, поглядел и ушел.
С каждым днем авторитет Царь-бабы падал.
Калуга ей рта не давал раскрыть.
На угрозы ее позвать полицию свирепо орал:
— Катись ты со своими фараонами к чертовой матери на легком катере.
Или грубо балясничал:
— Чего ты на меня скачешь, сука? Все равно с тобой спать не буду!
— Тьфу, черт! Сатана, прости меня господи! — визжала за стойкою Анисья Петровна. — Чего ты мне гадости разные говоришь? Что я, потаскуха какая, а?
— Отвяжись, пока не поздно! — рявкал Калуга, оскаливая широкие щелистые губы. — Говорю: за гривенник не подпущу. На черта ты мне сдалась, свиная туша! Иди вот к Яшке, к мяснику. Ему по привычке с мясом возиться. Яшка-а! — кричал он Младенцу. — Бабе мужик требуется. Ейный-то муж не соответствует. Чево?.. Дурак! Чайнуху заимеешь. На паях будем с тобою держать!
Младенец глуповато ржал и подходил к стойке.
— Позвольте вам представиться с заплаткой на…
Крутил воображаемый ус. Подмигивал белесыми ресницами. Шевелил носком ухарски выставленной ноги, важно подкашливал:
— Мадама! Же-ву-при пятиалтынный. Це зиле, але, журавле. Не хотится ль вам пройтиться там, где мельница вертится?..
— Тьфу! — плевалась Царь-баба. — Погодите, подлецы! Я, ей-богу, околоточному заявлю!
— Пожалуйста, Анись Петровна! — продолжал паясничать Младенец. — Только зачем околоточному? Уж лучше градоначальнику. Да-с! Только мы усю эту полицию благородно помахиваем, да-с! И вас, драгоценнейшая, таким же образом. — Чего-с? — приставлял он ладонь к уху. — Щей? Спасибо, не желаю! А? Ах, вы про околоточного? Хорошо… Заявите на поверке. Или в обчую канцелярию.
— Я те дам — помахиваю! Какой махальщик нашелся! Вот сейчас же пойду заявлю! — горячилась, не выходя, впрочем, из-за стойки, Анисья Петровна.
А Калуга рявкал, тараща кровяные белки:
— Иди! Зови полицию! Я на глазах пристава тебя поставлю раком. Трепло! Заявлю! А чем ты жить будешь, сволочь? Нашим братом шпаной да вором только и дышишь, курва!
— Заведение закрою? Дышишь? — огрызалась хозяйка. — Много я вами живу. Этакая голь перекатная, прости господи! Замучилась!..
Калуга свирепел:
— Замолчь, сучий род! Кровь у тебя из задницы выпили! Заболела туберкулезом.
Младенец весело вторил:
— Эй! Дайте стакан мусору! Хозяйке дурно.
Такие сцены продолжались до тех пор, пока Анисья Петровна не набрала в рот воды — не перестала вмешиваться в дела посетителей.