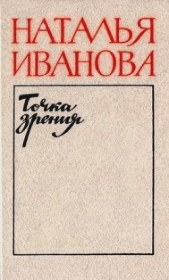Долг

Долг читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Машины, груженные скарбом двадцати пяти семей, поднимая пыль и набирая скорость, понеслись длинной колонной по выжженной степи в сторону заката. Вот и скрылись они за перевалом, даже след простыл, рассеялась пыль, а люди все стояли на буром холме, за аулом, все глядели вслед, зачарованные магической силой только что спетой белоликой женщиной прощальной песни. Сколько разговоров затевала Бакизат после того случая о том, что надо бы и им подумать, куда перебраться, как и где жить дальше, но ты уходил от ответа, молчал. Но именно с тех пор в душу твою закралась неосознанная, но постепенно дающая о себе знать тревога — будто поскуливал там неведомый щенок. И каждый раз, как кто-нибудь уезжает из аула, щенок этот скулит все явственнее, все безнадежнее. И в такие дни ты ходишь сам не свой, не зная, то ли и тебе сняться с родных мест, то ли тянуть до последнего, и будь там что будет. Да что Бакизат?.. Не на это ли откровенно намекала и старая мать в день твоего приезда с устья Сырдарьи, затеяв за чаепитием беседу, поначалу издалека, намеками? Тихо было в доме, мать разливала чай, а ты, по обыкновению, задумался о чем-то; и тут мать, смерив тебя пытливым взглядом, напрямую сказала те слова, которые никак не выходят сейчас из головы. «Слушай, сын мой, — говорила она, — помнишь, ещё до вчерашнего дня я всей душой была с теми, кто ни за что не желал покидать отчий край. А теперь меня здесь ничего уже не держит, знай это».
Слова матери как-то не сразу дошли до сознания. «К чему это она клонит?» — рассеянно подумал было ты. И тут же понял: мать-печальница смотрела дальше, заботилась, как могла, о том, чтобы любым способом сохранить семейный очаг, мир и лад в семье сына. И, значит, дала ясно понять, что никогда не станет помехой, не будет обузой своим детям, если они в поисках лучшей доли вдруг решат покинуть родные места. А ведь, по сути дела, тем же самым — прочностью связей между отцом и детьми, нерушимостью уз семьи — день и ночь озабочен и тот почтенный Адай, если уж он решился не пожалеть собственного сердца, прикипевшего к земле предков, оторвать, уехать с четырьмя взрослыми сыновьями, чтобы с немалым трудом и тоской обосноваться, пустить слабенькие на первых порах корешки бог весть в каком уголке необъятной степи. Но думал ли ты об этом? Заботился ли ты об этой самой прочности своего очага? Не знаю, не знаю!..
* * *
И ведь по пути в баню ничто тебя вроде не тревожило. Ты спокойно вошел в предбанник. Снял пальто, сапоги. Пока не спеша раздевался, продрог. Зябко ступая по холодному полу, направился к набухшей от сырости двери. Приоткрыл ее. И, не проходя дальше, остановился у порога, соображая, где бы пристроиться. Из волглого горячего сумрака доносились голоса, гремели тазы, плескалась вода, яростно шипел раскаленный зев заслонки. И тут кто-то тронул тебя за руку. Показалось даже, что по имени окликнули. Ты повернулся. И в первое мгновение подумал, что это какой-то мальчишка, пришедший в баню с отцом. Но, увидев лысую, с одним ухом голову, узнал своего родственничка.
— Благополучно, значит, вернулись? — спросил Сары-Шая.
В бане ты всегда стеснялся среди нагих людей, потому сторонился, подыскивал уголок поукромней. И сейчас, едва войдя в мыльню, ты растерянно оглядывался, стыдясь своей и чужой наготы и неловко прикрывая стыд то тазиком, то ладонью.
— Надеюсь, от богатого улова и нам кое-что перепадет. Но... речь, знаешь, не о том. Слушай, отойдем-ка в стороночку.
Ты отпрянул, но Сары-Шая ловко встал перед тобой:
— Постой! Дело есть...
— Да ты в своем уме?
Ты хотел было вырвать руку, но Сары-Шая, сунув тазик между коленями, обеими руками цепко ухватился за твою кисть.
Вокруг вас сквозь серый пар мелькали чьи-то голые тела. Кто-то поздоровался. Какой-то верзила, с головы до ног в мыльной пене, повернулся на ваши голоса, прислушался, но, ничего не разобрав, вновь с ожесточением зашоркал мочалкой. А за ним мылись двое стариков. Они с любопытством смотрели на вас, близоруко щурились. Один из них прыснул, толкнув другого в бок: «Глянь! Этого сморчка я сразу признал. А кто тот верзила рядом с ним... как верблюд на поводу у мальчишки?»
— Хватит, пусти!
— Дело есть.
— Что, горит?
— Да. Только не у меня — у тебя горит.
Эх, как подмывало тебя шарахнуть тазиком по голой, как задница, плешине. Но Сары-Шая, тот, как зверь, нутром учуял, что ты не посмеешь это сделать, и самодовольная ухмылка тронула его губы.
— Мне говорили, ты в бане. Вот и я присеменил сюда...
— Что случилось?
— Беда. Приезжает из столицы ихний предводитель.
— Чт-о?
Сам знаешь, о ком говорю. Будь начеку. Не оплошай. Слышишь?
Ты толком ничего не слышал. Охваченный гневом и раздражением, разобрал из его путаной речи лишь одно слово: «ихний». И потому машинально сообразил, что уж коли речь зашла об ихних, то за этим непременно последует наши. Ихние — это значит Тлеу-Кабак, сильный многочисленный род, коренные жители этого края, а наши — значило пришлые, небольшой отросточек, всего в каких-нибудь двадцать-тридцать семей род Жакаим.
Сары-Шая не одобрял, что вместо того, чтобы с должным вниманием принять эту недобрую весть, ты, весь красный от смущения, больше озираешься по сторонам, точно заартачившийся верблюд у брода.
— Да ты пойми, послушай, дружок. Послушай, говорю...
Сары-Шая, как бы ни вытягивал шею, как бы даже ни привставал на цыпочки, чтобы завладеть твоим вниманием, однако еле-еле достигал до пояса рослого детины. А говорить громче он явно опасался. И тогда обозленный Сары-Шая мигом перевернул тазик вверх дном и ловко вскочил на него, как на трибуну. Так бывало всякий раз, когда ему предоставляли слово и надо было говорить.
Но из-за высокой трибуны виднелась одна лишь макушка с жидкими волосенками. Это всегда бесило его, он затравленно оглядывался вокруг, ища любую, какая ни попадется, подставку под ноги. И, не найдя ничего подходящего, бесцеремонно выхватывал стул из-под какого-нибудь местного ударника труда, любителя повосседать в президиуме собрания.
— Так вот, слушай, приезжает из столицы этот... ихняя опора.
— Опора-а?
— Да-да, опора. Академик.
— Ну и что?
— Как ты не понимаешь, мы ведь пришлые. Вроде как пасынки... Чужаки, понимаешь. А хозяева — они. Их много, нас мало. Так? А раз так, то значит, вся сила в их руках. Так? Так или не так? — Он немигающими, по-кошачьи горящими, желтыми глазами впился в тебя. — Пойми: у кого сила, тот и верховодит. Так было раньше, так и теперь. А сейчас они вовсе хотят нас придушить, как одинокий стебелек ячменя посреди пшеничного поля. Да-да, дружок... не смейся. Они не хотят смириться с тем, что не они, а ты руководишь колхозом.
— Брось! Сами ведь на общем собрании выбирали, единогласно.
— Тогда они выбирали тебя в шуме да в суматохе, а теперь опомнились, спохватились. Теперь хотят прибрать власть к своим рукам.
— Брось...
— И бросать нечего! Полетишь вот вверх тормашками. Еще как полетишь. Запомни мои слова: вместо тебя поставят Заику! Дядю его!
— Ну, хватит... Вздор это!
— Ничего не хватит! Если у Заики такой всесильный племянник, такая длинная рука в столице, он что — паршивым колхозом здесь управлять не сможет?! Еще как сможет!
— Вздор! Люди ведь не игрушки, чтобы каждый...
Люди, дорогой, ныне покладистые, прирученные. Ими руководить — все равно что машиной управлять. Много ли ума надо, если машина исправна и заправлена: садись да крути-верти баранку, она и побежит — ой как послушно побежит, затарахтит даже под тобой...
Только что ты готов был взорваться от досады, от гневного раздражения — а тут невольно рассмеялся. Тебе вдруг явственно представился этот самый Заика-Быдык: горбоносый, чернолицый, всегда возбужденный, с каким-то звероватым оскалом — ни дать ни взять верблюд-самец, готовый в пору гона яростно стоптать любого... Как он может руководить колхозом, если даже его бригада из десяти человек стоном стонет и чуть не каждый божий день пишет жалобы, умоляя: «Ради бога, избавь нас от него. Замучил — сил нет...» Однажды, после очередной такой жалобы, пригласив его к себе, ты резко поговорил с ним с глазу на глаз: дескать, с людьми ты груб и жесток, не умеешь руководить, все у тебя ни шатко ни валко, тяп-ляп. Но не успел ты ему это выложить, как он вместе со стулом придвинулся к тебе вплотную и, брызгая слюной, заикаясь пуще прежнего, завелся с ходу: «Я... я, говорю, эт-то, говорю, от-тменно работаю, говорю. Т-только э-ти... говорю, п-п-почему-то всегда недо-до-довольны, говорю!..» Впрочем, что тут невозможного? Захотят — и Заика-Быдык в два счета баскармой заделается.