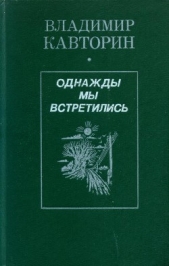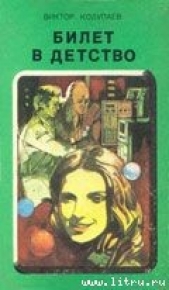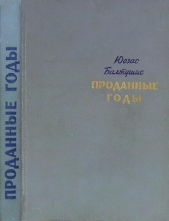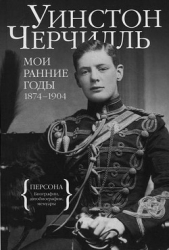Раноставы

Раноставы читать книгу онлайн
В первой книге курганского прозаика, участника зонального совещания молодых писателей Урала 1983 года, речь по преимуществу идет о селе военной и послевоенной поры, о том трагическом, но по-своему замечательном времени, увиденном глазами ребенка. Автор стремится донести до читателя живую колоритную речь своих земляков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Исаковну затрясло, как с мороза. Руки дрожмя задрожали, ноженьки заподсекались, а голос заскрипел деревянной трещоткой, а потом совсем стух. Старушка плакала. Сквозь сарайные щели, против которых пристроился Андрюшка, высвечивались старушечьи щеки. Они сухи-сухоньки, как коленкор, белы-белехоньки, а в глазах ни одной слезинки. Видно, годы иссушили лицо, вычерпали слезы из глаз, как воду из двух голубых родничков.
— Осиротела я. С тех пор вот и кукую одинокой кукушкой, — пересилив хрипоту, продолжала опять Исаковна, по привычке вытирая воспаленные глаза кончиком старого кашемирового полушалка. — Ох и больно становится, как раздумаюсь. Какую кару на сердце вынесла, сколько горя выстрадала, горюшка великого от фашиста дикова. Да разве я одна?! Все мы. Обольемся слезами — да в поле. Одно утешенье, одно удовольствие — работа. А робили, сама знаешь, со злостью. Я — за четверых, другие — того больше. Пахали, сеяли, вязали снопы, молотили, лопатили хлеб, скирдовали солому, возили за сотни верст горючее. Все для того, чтобы нечисть поганую, как чертополох, выполоть, штоб не колола, не першила больше в горле.
Тут не выдержала и мать: заплакала навзрыд. Тоже вспомнила горечь-обиду и женскую долю-судьбину.
— Дак ведь и мне, Исаковна, досталось несладко. Ох, несладко, хоть и младше тебя. Без матери осталась молода-молодехонька. А с отцом, правду говорят, как с псом. Без отца останешься — полсироты, без матери — круглая сирота. Не на ково шибко-то надеяться-рассчитывать, окромя себя. Да и попробуй-ка посиди сложа руки. Сразу влетит затрещина! Ну и в семье была за старшую. Каждого надо обмыть, обшить, накормить. Вот и буровила, как Сивко-Бурко. Одни мытарства и заботы видела. В замужестве, думала, полегче будет, а то же самое. Токо и было счастья — одна-разъединственная неделя, и та не полностью. Не оговорилась я, нет. На другой же день после свадьбы огорошил тятенька. Ты же помнишь его, Исаковна?
— Ишо бы! Помню, помню. Крутой, ох крутой был. Кипяток. Если не по нему, сплеча рубил.
— Вот и говорит он: «Хватит сидеть на шее. С богом»! — «Куда мы, тятя?» — спросил Ваня. «Не маленькой, — спокойнешенько ответил свекор. — Сам кумекай. Вишь, у меня сколько гавриков-то: бруса не хватает, если расседутся, и каждому подавай есть-пить. Проживешь — не в девках! Приглядывайся, примеривайся к жизни-то».
Оставили мы тятенькины ворота и пошли. В себе да на себе — все и приданое. Пришли к Егору Егоровичу — спасибо ему — отвел он нам клеть-чуланку. Опосля огоревали свою избенку. Правда, с Ваней успели только сруб срубить, а крышу без него крыла. Его на действительную забрали. Не успела встретить с действительной — на финскую проводила, а с финской пришел — проводила на стройку в Шадринск. Хорошо, что близко. Соскучусь — к нему скорей, а то он ко мне. Раз и говорит: «Хватит мотаться, переезжай в Шадрино». Я слушать не захотела, руками замахала: куда с насиженного шостка. Я города, как черт ладана, боюсь. «Дура», — впервые услышала я от него: вот уж как вынудила. «Если на другую стройку переведут или какая беда случись, — оправдываюсь, — куда я с ребятишками!» — «Не переведут». — «Ведь в работе — не в своей воле».
Вскоре приезжает он. Болела я тогда, шибко мучилась. Болезнь еще Шурка добавила. Тогда я беременной с ней ходила. Невмоготу стало. Думаю, край-конец пришел. Ладно, что Ваня догадался, турнул ко мне повитуху бабку Дарью, а сам где-то целые сутки пропадал. Пришел, когда я родила. Лежу на пече, а он облокотился на верхний голбчик и, не мигая, уставился на меня. А глаза! Не забыть сроду-роду. Блестят, как блестки, глубокие, как Лисий омут, и полные слез. В дрожь меня бросило, жаром охватило, потом озноб накинулся.
«Ваня, — не чуя голоса, кричу. — Что случилось?» — «Не пужайся, Онисьюшка. Береги здоровье, оно всему голова». — «Не уговаривай, а правду говори». — «Ну… знаешь… Понимаешь… Как тебе сказать?» — заикался он, а лицо белехонько-белехонько, ну прямо мука мукой.
Пуще защемило сердце (хворому-то много ли надо). В голову ударила всякая чертовщина. Будто бы Ленька с Ондрюшкой утонули и кричат: «Мама, мамочка, спаси»! — «Сейчас, сейчас, роднулюшки», — отзываюсь. «Что с тобой, Онисьюшка? Может, фельдшера позвать, а?» — «Где ребята?» — «Вот они, в солдат играют». Чует мое сердце что-то неладное. А что? Молчит Ваня. «Чего скрывать-то? — с болью выкрикнула я. — Ради Христа, говори». — «Боюсь не только тебя, но и себя». — «Велика беда! Умру, другую найдешь». — «В уме ли ты, Онька? Надо о ребятах думать!» — А у самого слезы. Хошь верь, хошь не верь, Исаковна, слезы вот с эту бусину. Вдруг он смахнул их и словно выстрелил: «Война, мать! Война!»
Закружило меня, избу, печь. Все ходуном заходило. Пришла в себя только на второй день. Народу в избе туго-натуго. В переднем углу Кольта Тюлюбаев с отчаянной тоской поет:
Ему вторит Ермолай Стерхов:
«Что это, Ваня?» — испугалась я. «Сегодня отправляют нас». Тут уж совсем доконало меня. Со страха обезножила, голос отнялся, лежу как чурка с глазами: вижу все, а говорить не могу. «Оня, Онюшка, очнись, — трясет меня Иван. — Не я первый, не я последний. Вон нас сколько. Что теперь поделашь?» То со мной говорит, то к дочке наклонится: «Ну, Шурка, будешь жива, я буду жив. Нет — и я погибну. Судьба ты моя, судьба, доченька». И кинулся ко мне: «Прощай, мать! Прощай, не вспоминай лихом!» Я враз оклемалась и закричала: «Никому не отдам, не пущу! Куды ты, Ваня? Родной!» Не помню, кто оторвал меня от Вани, а когда очнулась — Шурка плачет. Девочка моя, дочурка злосчастная! Никому мы ненужные, бросовы. Так и не видела она света белого, умерла…
Знала бы, ведала, что не придет на этот раз Ваня, ползком бы поползла, но проводила бы, ишо напоследок поглядела бы. Ох, Исаковна, как больно вспоминать!
— Не плачь, Онисья, не реви. Поди, богу наших слез хватит. Чай, ими реченьки заполнены, оттого-то глазоньки и высохли.
— Растревожила ты мое ретивоюшко, все нутро наизнанку вывернула.
— Уж прости ты меня, греховодницу. Не хотела задевать прошлое, да к слову пришлось. Как увижу Ондрейку, дак в глаза лезут мои конопляночки. Вижу их во сне, через день да кажный день. Осталась одна радость — твой Ондрюшка. Им и живу. Мне он родней родного. Хоть, может, и не заменит родную кровь, а встретишься, будто рукой снимет боль и тоску по любимым деткам.
Мать смахнула слезу.
— Эх, времечко, не зарубцевало ты раны прошлого. Болят они, отдаются везде, ноют.
Андрюшка подался весь вперед и, сжимая добела кулачонки, кому-то грозя, крикнул:
— Не дам Исаковну в обиду, за маму и папу отомщу!
Не враз остановится воскресшее горе. Долго еще не отхлынет, долго будет щемить и полоскать сердце. Уж больно въедливо оно. Подчинись, спасуй перед ним — скрутит, высушит сердечушко, свяжет по рукам и ногам и вышвырнет за обочину дороги. Хорошо, что души не такие: недосуг горевать — дел невпроворот.
Ойкнула, спохватившись, Онисья:
— Ондрюшка, куда запропастился?
— Тут я, мама, тут.
— Корову гони в пастушню и сразу на ферму беги. Я чуть опнусь. Надо ишо в контору подвернуть.
— Иду, мама, иду-у…
Эхо прокатилось по озеру и, промчавшись через луговину, вонзилось в ближний березняк. Набуянило там, накричало и легко прилетело обратно, ухнуло в прибрежную воду и запуталось в камышах.
В ограде промычала Тигра: словно отозвалась на эхо.
— Мама! — испуганно заорал мальчишка.
— Что стряслось?