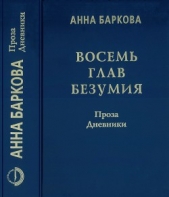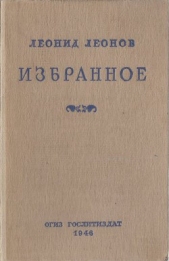Избранное. Из гулаговского архива

Избранное. Из гулаговского архива читать книгу онлайн
Жизнь и творчество А. А. Барковой (1901–1976) — одна из самых трагических страниц русской литературы XX века. Более двадцати лет писательница провела в советских концлагерях. Но именно там были созданы ее лучшие произведения. В книге публикуется значительная часть, литературного наследия Барковой, недавно обнаруженного в гулаговском архиве. В нее вошли помимо стихотворений неизвестные повести, рассказ, дневниковая проза. Это первое научное издание произведений писательницы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пусть ваша молодежь, столь оберегаемая от опасных влияний, читает Антонину Коптяеву, Вербицкую нашего времени. А я болезнь называю болезнью, а не здоровьем, рецептов не прописываю, только ставлю диагноз. И за это скажите спасибо. Лечит природа, а не снадобья. Все снадобья, т. е. все великие учения и догмы, крайне ядовиты. Люди, занимающиеся литературной и всякой иной халтурой, соболезнующе-снисходительно советуют мне:
— Займитесь каким-нибудь созидательным трудом. Есть же виды труда, где можно обойтись без подхалимства, где можно не подделываться, не лгать.
— Какие, например?
— Ну… быть педагогом, обучать детей. Если я преподаю историю, то…
— То вы придаете историческим фактам освещение, предписанное вам свыше. От экономического базиса и классовой борьбы в древней Германии вы никуда не уйдете… По правде говоря, по современным учебникам истории я не могу отличить древнюю Элладу от Италии эпохи Ренессанса, Францию XVIII века — от эпохи Каролингов, эпоху Ивана Грозного — от нашей эры.
Споры с халтуристами-советчиками напоминали мне недавнее прошлое: лагерь, где по ночам нас запирали в вонючих бараках, где на спины нам пришивали номера и где собирались всех нас перестрелять, а может быть, перетравить, как мышей. Даже в такой обстановке одна бывшая партийная дама прочирикала однажды в разговоре со мной:
— Не одна политика на свете… Есть искусство, дружба, любовь.
— Любовь? А вы забываете, что вашего любовника в одну прекрасную ночь могут вырвать из ваших объятий и придется вам с трепетом в заячьем сердце отречься от него… И искусство, и дружба, и любовь должны быть партийны.
В ответ партийная дама прочирикала спасительную, крепко затверженную формулу:
— Ну, что же? Много жертв, много ошибок, но коммунизм строится.
— Где вы это видите? — осведомилась я.
— Ну как же… Уже видны зримые черты коммунистического общества. Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых, то есть уверенность в невидимом, как бы в видимом, и в желаемом и в ожидаемом, как бы в настоящем.
Это гениальное определение из Катехизиса Митрополита Филарета — самый подходящий эпиграф к нашей эпохе.
Помню, многие рыдали около репродуктора в лагере, услышав скорбную весть в марте 1953 года. Рыдания были прерваны надзирателем, неофициально, в кругу заключенных, именуемым «кобыльей головой»:
— Ну-ну! Расходитесь по баракам. Ишь, слезы распустили. Кто вам поверит?
Крамольники исподтишка ухмылялись:
— Рыдают, что поздно скорбную весть услыхали… Годиков бы 20 назад услышать.
Но буду объективна. Некоторые рыдали, если не совсем искренно, то полуискренно, во всяком случае. В любых самых страшных условиях человеку можно внушить что угодно, особенно если он, поддаваясь внушению, чувствует, что это лучший способ спасти свою шкуру.
Чем же я все-таки живу на воле? Частной благотворительностью. Помощью обычных советских служак, без энтузиазма, а ради куска хлеба сидящих в канцеляриях, библиотеках, работающих на заводах, и даже, увы, помощью вот этих самых халтуристов, которые оккупировали под знаменем марксизма-ленинизма все так называемые идеологические области в нашем государстве. Так жить нельзя, это цинизм — не отрицаю. Кажется, единственный случай, когда я не отрицаю, а утверждаю. Так что же мне делать?
— Обратитесь к Основину. Вы работали вместе, чуть ли не друзьями были. Наверняка он поможет вам… в той или иной форме.
Долго не хотелось мне следовать этому совету моих доброжелателей. Основин, участник гражданской и второй отечественной войны, несколько лет в начале революции работал вместе со мной в редакции одной крупной областной газеты. Потом он стал ведущим очеркистом, из тех, какие сериями изготовлялись в тридцатые и сороковые годы, лауреатом Сталинской премии, неоднократным орденоносцем и за литературную деятельность, и за, военные подвиги. В 1941 году он пошел добровольцем на фронт и года через два выбыл из строя. Он работал в штабе редактором какой-то армейской газеты, и в помещение штаба угодила фугаска чуть ли не в полтонны. Живым-то он остался, но слепота, паралич ног, искалеченная рука вывели его из общества зрячих и ходячих.
Основин лежал много лет, диктовал свои мемуары, пользовался специальным уходом и особой заботой правительства. Развлекался он, как говорили досужие люди и завистники, перебирая свои ордена, хранившиеся в красивом лакированном ящике, подаренном ему каким-то китайским генералом. Уверяли, что блаженная улыбка не угасала на устах калеки при этом утешительном занятии. Он был слеп, парализован и счастлив.
Я ощущала острое любопытство к этому счастью. Мне хотелось навестить своего бывшего коллегу и приятеля. С другой стороны, какое-то смутное чувство недоброжелательного недоверия и некоторого отвращения не к физической, а к духовной слепоте этого так много пережившего и перестрадавшего человека удерживало меня от визита. Но любопытство и личная заинтересованность (что греха таить, надо же мне было куда-то приткнуться), наконец победили.
Основин жил, то есть лежал, в прекрасной отдельной квартире (одна из премий за слепоту и паралич). Такими же премиями являлись пожилая, очень аккуратная и степенная домоправительница и три сиделки, дежурившие по очереди.
Домоправительница и дежурная сиделка очень долго допрашивали меня у входной двери, так долго, что я наяву почуяла запах бдительности особого рода, не врачебной, а государственной.
— Старая знакомая? А кто вы? Откуда?
— Когда вы познакомились с Петром Афанасьевичем?
— А зачем вам его видеть? Он болен… безнадежно болен. Вы знаете?
— А не взволнуется он, когда вас увидит?
— Ничего — такого ему не рассказывайте.
Сыпавшиеся с двух сторон вопросы ошеломили меня.
И только на последнюю, — очень странную — фразу я возразила:
— Чего ничего «такого»?
— Ну, мало ли сейчас всяких слухов и болтовни. Многие бездельники языки пораспустили.
— А разве у нас в стране есть бездельники? — наивно поинтересовалась я.
— Ну, это так говорится, конечно.
Все-таки обо мне доложили хозяину, и меня повели к нему через три-четыре комнаты и коридор. Описывать квартиры я не люблю. Ну обстановка: столы, стулья, кресла, даже картины прославленных советских художников, то есть невыразимо скучные, серые, но тем не менее очень красные.
Хозяин лежал на постели, покрытый плюшевым одеялом, красным с серыми полосами по краям.
— Ты! Здорово! А ведь я за несколько комнат узнал тебя по голосу. Вот слух стал! Компенсация за слепоту!
Но его-то голос я бы никогда не узнала. Говорил он так, как говорят люди, вошедшие в комнату с очень крепкого мороза, одеревеневшими губами, еле-еле расщепляя их. Паралич коснулся и лицевых мышц. «Значит, не только ноги, а вообще», — подумала я с острой жалостью.
Я села около кровати. Больной попросил всех удалиться.
— Старые приятели. О прошлом вспомним. Вместе работали в печати в первые годы революции.
Сиделка заулыбалась мне очень любезно, с заученной ласковостью поправила на больном одеяло и с выражением той же заученной заботы и приветливости удалилась.
Между прочим, у входных дверей в разговоре со мной на лице сиделки было совершенно иное выражение. В настороженных, холодных бледно-голубых глазах остро поблескивала подозрительность, голос звучал сухо. И интонации следователя при допросе обвиняемого по 58-й статье. А может быть, это был приступ моей обычной мании преследования. Как я сказала, в спальне хозяина сиделка совершенно преобразилась. Ядовитое недоверие глаз мгновенно перетопилось в сладчайший мед преданной заботливости и ласковости, видимо, предписанных партией и врачами. Голос зазвучал рассчитанной на больного специальной жизнерадостностью:
— Вот он у нас какой! Молодец! Работает день и ночь. Всем бы здоровым так работать… Диктует, беспрерывно диктует!
Из-за маленького столика со вздохом облегчения поднялась средних лет женщина, известная московская стенографистка. Она слегка поклонилась хозяину и мне и ушла.