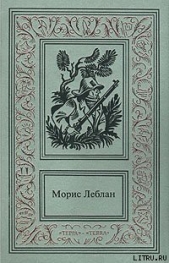Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди

Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Андрей слез с печи, взял лампу и прошел в соседнюю, меньшую комнату. Когда-то в ней жила старшая дочь, потом это была комната сына, а теперь отец и мать хранили здесь вещи, которые напоминали о сыне Василии. Около опрятно убранной кровати, в узком простенке между окнами, висела фуражка Василия с синим верхом, желтым кантом и красным околышем. Он носил ее, когда учился в реальном училище. Чуть пониже повесили серую солдатскую папаху с прорезами и застежками на боках. Если их расстегнуть, из папахи получится ушанка. Эту папаху Василий носил в одном из саратовских отрядов Красной гвардии, куда сбежал в 1918 году, оставив реальное училище, оставив Дон, где тогда бродили белогвардейские банды.
В другом простенке стоял треугольный столик под вязаной скатертью со стопками аккуратно сложенных на нем книг. Но самым ценным из того, что было на столике, родители считали деревянную шкатулку с письмами от Василия. Письма эти были для отца и матери каким-то свежим, животворным ветром, который, прилетая издалека, распахивал в их небольшом доме двери и окна и словами Василия говорил им:
«Папа и мама, если эти строки попадут к вам, не ругайте, что я такой скупой на слова: у нас на Белой горячие денечки — бьемся с колчаками за правду-матушку, за дела народные…»
«Погиб наш Чапай в быстрых волнах Урала… Как теперь дорожить нам своей жизнью, если он ради народа лишился ее?..» — писал Василий позже.
С весны 1920 года письма приходили уже из Москвы, из военной академии, где теперь учился Василий. Письма были пространными, они доставлялись почтой на освобожденный от белоказаков и белогвардейцев Дон. В одном из них сын, подшучивая над отцом, писал:
«Папа, вы с Хвиноем от красных отступали, должно быть, как самостийники-казаки!.. Не подумали вы, что Суворов, Кутузов, Багратион не были казаками, а какие казаки!.. Если бы вы видели в деле красных командиров Фрунзе, Чапаева, Буденного, сразу бы приняли их в самые почетные донские казаки!»
В этой же комнате, как раз около двери, за пестрой занавеской, была устроена вешалка для верхней одежды.
Одеваясь, Андрей думал о письмах сына, которые были дороги ему тем, что звали на широкий простор.
С овчинной шапкой в руках он вернулся в переднюю. Елизавета Федоровна уже растапливала печку: стоя на коленях, она подсовывала в пламя пучки белой соломы, пахнущей гумном, полем и изморозной свежестью.
— Ну и морозяка! Ну и жмет! — покряхтывая, повторяла она.
— Бабка, — обратился Андрей к жене, — ты бы шкатулочку да шапки Васины прибрала куда подальше…
— Ай правда, что дела пошатнулись?..
Елизавета Федоровна поднялась и стояла теперь против мужа, державшего под мышкой винтовку.
— Может, жена Матвея правду сказала про обоз и про Хвиноя?.. Ты что-нибудь знаешь об этом? — допытывалась она.
— Если и есть урон у наших, то все равно кто-нибудь вот-вот должен вернуться. На быках-то еще не скоро дотащатся, а те, что на лошадях, должны уж быть.
Видя, что муж готов уйти, Елизавета Федоровна взяла у него шапку, нахлобучила ему ее на голову поглубже, подняла воротник шубы и сказала:
— Ну, вот и готов в поход чернобородый казак, — и застенчиво, ласково улыбнулась.
— О бороде поговорим после, когда наши возвернутся домой живыми и здоровыми, — отшутился Андрей и вышел из хаты.
Ночь скоро разломится пополам. На дворе безветренный мороз. Матовое покойное небо густо пронизали звезды. Они мигают в недосягаемой высоте не то очень весело, не то очень грустно. Полная луна сегодня спустилась низко к земле и, не мигая, глядит в балки, в лощинки. Кажется, она хочет спросить: «А куда же девались сидевшие здесь хутора?.. Вербы и сады темнеют, а построек не видно. Где же они?..»
Издавна говорят, что луна недогадлива. И в самом деле, уму непостижимо: вечно бродя в спутниках у земли, она все еще не поняла, что если на землю ложится снег, то он ложится и на крыши белостенных хат, домов, сараев, амбаров, и тогда все сливается в однообразный белый простор. На этом белом просторе, под луной и звездами, вспыхивают крошечные серебряно-голубые огоньки изморози; на этом белом просторе все не белое кажется одинаково черным — и незаметенная снегом острая полоска льда на речке, и обрывы невысоких берегов, и голые сады, и вербы в большой леваде Аполлона, и медленно шагающий к вербам человек… Если луна и звезды умели бы думать и завидовать, то они с завистью бы подумали об этом человеке: «Хорошо ему в такую ночь!.. Не улежал в постели — вышел полюбоваться январской степной красотой!»
Но у человека, черная фигурка которого уже начинала сливаться с чернотой верб в Аполлоновой леваде, под мышкой была винтовка. Человек этот был Андрей Зыков. Он и в самом деле любил такие ночи и рад был полюбоваться их красотой, но оценить в полной мере прелесть сегодняшней ночи не мог. Ему мешала тревога, как бы жизнь не свернула на старую дорогу… Свернет — и самая светлая ночь станет для простых людей непроглядной и самый зеленый май не принесет радости!
А Аполлону как раз нужно, чтобы старая жизнь вернулась, и потому Андрею хочется знать: почему в этот поздний час над крышей Аполлонова куреня вьется такой проворный дымок? И почему из горницы, сквозь ставню, тонкой паутиной пробивается свет? Нет ли в этом угрозы для советского порядка?
С большой осторожностью, боясь разбудить собак, ходит Андрей по саду до тех пор, пока ему не удается выяснить, что в горнице Аполлона, около настольной лампы, сидит над книгой Сергеев. Сидит и поглаживает своей узкой, как у женщины, ладонью широкую лысину. Но кто сидит по другую сторону стола? Кому, отрываясь от книги и пощипывая каштановую бородку, поддакивает Сергеев, — этого не видно, да и по голосу не узнать, плохо слышно сквозь окна и ставни.
Андрей осторожно подходит со стороны сада к самому крылечку: может, в коридоре есть кто-нибудь?..
Дверь в коридор плотно закрыта, у крыльца стоят салазки, а поперек них положена увесистая палка. Ничего примечательного…
Тихонько выбираясь из Аполлонова сада, Андрей думает о Сергееве:
«Живется ему на этой квартире, видать, неплохо: на сковороде недоедена яичница, а в стакане — молоко не допито… И зачем это прислал его сюда окрисполком — убей, не пойму!.. Книжки, что ли, читать?.. И то сказать: читает он их, как жернов муку мелет… Зайдет в совет, скажет: «Так, мол, и так… Продотряд вам не присылали и не пришлют, потому что выполняете задание… Но учтите, что по советскому законодательству продналог надо брать с учетом едоков и запаса семенного зерна… Нет ли у кого книжечки почитать?» Остолоп или прикидывается таким? Ему же известно, что хлеб мы доставали из кулацких ям! Ссыпали его кулаки без учета едоков, — так же и забираем. И без всяких скидок!..»
Андрей вышел на улицу, единственную Осиновскую улицу, делившую хутор пополам, и шагал теперь не как человек, присматривающийся и выслеживающий подозрительное и опасное, а как тот, кто имеет право в открытую проверить, все ли в хуторе на своем месте. Он шел неторопливо, и хотя прихрамывал слегка, но поступь его была уверенной, твердой, а винтовку он нес уже не под мышкой, а на ремне за плечом.
Из двора вдовы Максаевой, еще молодой женщины, чей муж полег где-то в Восточной Пруссии в 1915 году, на Андрея простуженно залаял маленький кобелек и, будто устыдившись, тут же убежал за хату. Андрей знал, что Мавра — так звали вдову — ушла с хлебным обозом, и он невольно подумал, что ей и ее детишкам надо бы помочь в первую очередь, не дожидаясь, когда попросит.
Тянулись дворы с колодезными журавлями, с сараями и базами, с домами и хатами. С тыла к ним черной толпой подступали или яблони и груши, или густой вишенник. О людях, живущих в этих дворах, Андрей думал разно. Этот, например, по его соображениям, бреднем хочет поймать большую рыбу, но так, чтобы и портки не намочить. А сосед его будет принюхиваться к новому порядку, пока сзади кто-нибудь не стукнет по затылку. А стукнет — рванется вперед… Эти хоть и оступаются, все же идут навстречу нашей власти…