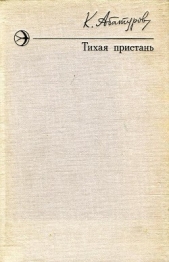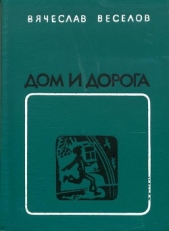Провинциальный человек

Провинциальный человек читать книгу онлайн
Верность земле, избранному делу, нравственная ответственность человека за свои помыслы и поступки — вот основные темы новой книги курганского прозаика, лауреата премии Ленинского комсомола, автора книг «Последние кони», «Пристань», «Поздний гость», «Избранное», «На вечерней заре» и др.В сборник вошли новые произведения, а также ранее увидевшие свет в уральских и столичных издательствах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну как же, Наташа? «Мне холодно в городе этом, где серые зданья молчат...» А озеро-то? Голубая жемчужина? Неужели забыла? Неужели... — пытался я ей объяснить, докричаться, но она только щурилась, играла ресницами... И я опять наступал на нее, горячился и нервничал, а потом опять что-то вспоминал и рассказывал, желая вызвать в памяти то далекое, такое далекое время. Но Наташа уже сердилась, не понимала меня, а может быть, уже ненавидела. И в губах у ней торчала длинная едучая сигаретка, и она ею все время попыхивала — прямо в глаза мне, прямо в лицо... Прямо в лицо, с какой-то даже радостью, наслаждением.
— А ты где теперь? Со школой тоже в разводе? — В ее глазах мелькнул интерес, какая-то искорка. Но это длилось только мгновенье. Только мгновенье... Да и было ли с нами то время, то счастливое время? А может, это мираж всего, пустота.
— Ты что, онемел? — стала сердиться Наташа. — Я тебя спрашиваю, где ты теперь обитаешь?
— В газете обитаю... В газете... — добавил я тихим, не своим голосом и отвернулся. На меня навалилась усталость. Не хотелось ни говорить, ни спорить, да и мешали ее глаза. Они тянулись навстречу новенькой черной «Волге», в которой сидели, наверно, ее друзья. Машина прошла совсем рядом, притормозила немного и вдруг загудела длинно и весело, напугав голубей на соседних крышах. Они сорвались в небо, в самую высь — и все выше, выше, как будто снизу в них целились из ружья. Еще миг — и хлопнет выстрел...
— Ну прощай, — сказала Наташа и опять выдохнула на меня свой едучий дымок. Как будто наказывала за что-то, как будто смеялась... Но наказание было еще впереди.
Да и наказание ли это? Может, что-то похуже... Да и не ждал я, не ведал. Ведь все началось с обыкновенной поездки. Сколько их было уже по моим газетным делам! Вот и тогда судьба закинула меня в одну степную деревню. Мне сообщили, что здесь интересный председатель колхоза: год назад, мол, оставил в Ленинграде квартиру и поехал в наши снега, в наши степи. Случай редкий... Вот я и отправился к этому человеку.
Хорошо помню то теплое утро. Я зашел в правление колхоза, у председателя было совещание. Мне посоветовали подождать в приемной. Я присел на разбитый кожаный диванчик и стал разглядывать стены. Ничего интересного — какие-то графики, листочки с приказами. И вдруг на глаза мне попала одна фотография. Она висела на стареньком стенде, который назывался «Ударники пятилетки». Фотография была старая, пожелтевшая, но все равно я узнал это лицо, эти глаза, эти волосы. Да и не мог я спутать, не мог! На меня смотрела со стенда Славкина сестра — Галина Петровна. Боже мой! Затрепетала и сжалась душа. Ну почему я сразу не пошел искать Тихомировых, не спросил местных жителей, ведь деревня эта называлась Васильевка? Ну, конечно, конечно же, это ведь Славкина родная деревня...
Время, время... Что же это такое? И где те люди, и где те дни? Да и на что я надеюсь. Говорят, что Тихомировы здесь жили давным-давно, а потом куда-то уехали. И родни после них не осталось.
И вот я уже стою в ограде Марии Петровны Сазоновой и вслушиваюсь в ее медленный голосок. На вид ей примерно лет шестьдесят, и она этого почему-то стыдится.
— Ты не гляди, что я старая, это неправда...
— Почему так? — удивляюсь я и начинаю расспрашивать ее о Славке. Но она вначале все о себе, о себе...
— Мне ведь всего пятьдесят два. Удивительно? Сама удивляюсь. А что делать — сгубила болезнь. Сперва ноги болели да отнимались, а теперь в груди не стало дыхания. Туда дохну — ничево. А обратно — что-то застрянет, и сердце колотится. У меня и астму признавали, потом како-то давление. Ты не знаешь, на что оно давит? Я в больнице все добивалася, а там, понимаешь, хохочут. А что смешного, если валит мою головушку. А почему — сама догадайся. Ну ладно, я отвлеклася... А парня я твоего знала, и сестру его знала. А как же, бывали дела. И у коров вместе робили, и на поле. Потом в огородной бригаде сколько работы перевернули, а все живем. Поболем да поохам да снова... — Она запахнула на себе стеганку самодельного исполнения и поднесла платочек к глазам. — Че-то мерзну всю дорогу. Чуть дунуло где — и простыла. И зимой простыла, и весной простыла, а летом — хуже того... А тебе про Тихомировых чего надо?
— Да хоть бы немного. Куда уехали, например?
— Куда уехали? — Она схохотнула. — Куда, где да почему... — Опять запахнулась потуже и сжала губы кружочком. Лицо ее сразу постарело. — Ну, что. Давай слушай, записывай. Галина Петровна, значит, укатила в Тюмень с ребятишками. У ней трое их — не соскучишься. Так что, завербовалась и ручкой сделала...
— Как это?
— А вот так это. Помахала нам на прощание. Живите, мол, тут оставайтеся, а я поеду свою долю искать, да ребятишек надо учить. Там, в Тюмени-то, мол, под ногами деньги валяются и в магазинах завал. И помидоры свежи, и мясо. — Она опять усмехнулась. — Да... А у нас тогда получился полный разор. Даже правление колхоза отняли. Вот так. Ты не поверишь, а было. Живите, мол, тут без правления, да и деревню вашу надо прикрыть. Сильно маленька и на отшибе стоит. И домишки у вас худые: на дрова — хорошо, а жить не приглядны. Вот так. Утешили, называется. У нас народишко и побежал. А Настасья Ивановна, мать твоего-то дружка, прямо тогда руками, ногами: никуда, мол, не поеду отсюда, тут и помру. Вот так. Осмелела Ивановна. Хоть веревками связывай — не поеду, и все.
— Привыкла, значит, к Васильевке?
— Ясное дело. Привыкат и медведь к берлоге. — Женщина посмотрела мне прямо в глаза. — Привыкай помаленьку, хоть ни воды тут, ни леса. Замучились...
— Как это? — изумился я. — Мне говорили, что здесь бело от берез.
— Ну, ну, чудеса... — Она засмеялась. — Выйди вон на поскотину, там две березы увидишь. Да и те обвяли все, облупилися. Распахали ведь все у нас — каки же березы?
— Ну, а озеро? — не отступал я от нее. — По нему, говорят, катер ходил?
— Катер? — переспросила она. И вдруг засмеялась от всей души. Я хочу ее оборвать, отвлекаю словами, а она все сильнее, сильнее. И смех громкий, как на гулянке. Наконец, унялась. И снова смотрит мне прямо в глаза. Кожа у ней на лице желтенькая, блестящая. И само лицо похоже на луковку. И вдруг опять луковка сморщилась: она смеется снова, не переждать.
— Катер, говоришь? Да ты бывал хоть на этом озере? Там куличку у нас по колено. А в июле пересыхат совсем — одна няша да камыши... Да и как же ему сохраниться? Сколько сезонов воду качали — то кукурузу придумали, то капусту каку-то цветочну. Бывало, наростим, а выдергать некому. Мы побегам, поохам, возьмем и запашем. Вот и дела. А ты случайно им не родня? — Она наклонилась ко мне близко-близко и перешла почему-то на шепот — Ты не родня Настасье Ивановне? Уж больно с сыном ее находишься.
— Да нет же! — сердито вырвалось у меня.
— Значит, говоришь, не родня? А я как тебя увидела, как перво слово услышала, так и решила — не зря ты здесь, ой, не зря. Уж больно с Настасьиным сыном находишься. И лицом, и походочкой. Он такой же русый был, темноглазенький. Да и ростик — под стать...
— Да что вы! — рассердился я. — Он же выше меня на целую голову.
— А ты не кричи. На меня и мужик мой не кричал. — Она опять поджала губы кружочком. — А если надо, я тебе ихний дом покажу.
— Надо, надо! — обрадовался я, и она тоже повеселела. Заблестели глаза.
— Тогда запоминай! Впереди будет небольшой переулок, а там домик — по правой руке. Перед домом — поленница дров. Там и обиталась с сыном Настасья Ивановна. Он ее и схоронил, а потом куда-то уехал... Ох и парень был! Расскажу — не поверишь, никто не поверит. — Она вздохнула тяжело, полной грудью, и опять запахнула стеганку, как будто ее знобило. — Он ее прямо с ложечки и поил и кормил. У ней же не только ноги, но и руки отказывали. С возу падала, да бруцулез признавали. Да кто, поди, знает. Сынок-то ее и в баньку таскал. Возьмет в беремя и понесет на руках. Посмотришь — тащит, как чурочку. А на голову ей шалюшку набросит, чтоб не простыла, не застудилась. Он и стирал на нее, и гладил, да еще коровешку каку-то держали. Надо, мол, мамушке свежее молочко. А придет зима — он ее на санки, а сам впереди, как коняшка. Вон оно как! Так только деток малых таскают, а он, понимаешь, старуху. Настасья-то сзади притихнет. А сынок бежит что есть мочи. Коняшка! Аха? — Она засмеялась, потом посмотрела на меня долгим взглядом. — С такими дитями жить можно. Да неуж он тебе не родня? И глаза таки же, и плечи... Не дал бог вам доброго ростику.