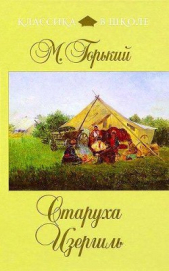Я люблю

Я люблю читать книгу онлайн
Авдеенко Александр Остапович родился 21 августа 1908 года в донецком городе Макеевке, в большой рабочей семье. Когда мальчику было десять лет, семья осталась без отца-кормильца, без крова. С одиннадцати лет беспризорничал. Жил в детдоме.
Сознательную трудовую деятельность начал там, где четверть века проработал отец — на Макеевском металлургическом заводе. Был и шахтером.
В годы первой пятилетки работал в Магнитогорске на горячих путях доменного цеха машинистом паровоза. Там же, в Магнитогорске, в начале тридцатых годов написал роман «Я люблю», получивший широкую известность и высоко оцененный А. М. Горьким на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.
В последующие годы написаны и опубликованы романы и повести: «Судьба», «Большая семья», «Дневник моего друга», «Труд», «Над Тиссой», «Горная весна», пьесы, киносценарии, много рассказов и очерков.
В годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом, награжден орденами и медалями.
В настоящее время А. Авдеенко заканчивает работу над новой приключенческой повестью «Дунайские ночи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шлепает меня и Ваську по ягодицам, и мы убегаем в темный угол эстакады, прячемся в порожней вагонетке.
— Идет!..
Васька поднимает белобрысую голову над бортом вагонетки. Я следую его примеру.
Снизу, из-под земли, медленно показывается ржавая, холодная и сырая, крутобокая, вся в дождевых струях клеть. Гремит железо о железо. Дюжие парни выталкивают выданные на-гора вагонетки с углем, катят на разгрузочную площадку.
Никита машет нам рукой:
— Давай сюда, пистолеты, живо!
Подбегаем. Никита ощупывает наши карманы.
— Табак, спички есть?
— Нету, нету, дядя Никита, ей-богу, нету! Разве я не знаю шахтерских порядков?
— Ишь, тоже мне шахтер! — Никита вталкивает Ваську и меня в клеть, задвигает решетку, кладет руку на какой-то рычаг, несколько раз дергает его. Ему в ответ дребезжит звонок — раз, два, три, четыре. Клеть чуть приподнимается и мягко, неслышно проваливается вниз, в землю. Потом все быстрее и быстрее. С воем и свистом, с шуршанием ветра, с железным лязгом. В груди у меня что-то, наверное сердце, обрывается, в горле спирает дыхание, в ушах пробки, а тело становится легким, непослушным — ноги вот-вот потеряют опору, отклеются от железного пола. Я хватаюсь за плечо Васьки, закрываю глаза и лечу, лечу в пропасть, в темноту. Ветер, дождь, песок и железный скрежет летят за нами и никак не могут догнать. И вдруг пробки шумно, как из пивных бутылок, одна за другой выскакивают из моих ушей, сердце садится на свое место, ноги прочно упираются в пол. Слышу Ваську — он хохочет:
— Крестись, Санька, приехали!
Открываю глаза. Клеть уже стоит. По ее крыше барабанят струи дождя. Усатый человек в набрякшем брезентовом плаще, в кожаном картузе, с шахтерской лампочкой в руке распахивает решетку. Васька выходит из клети и тащит меня за собой. Иду осторожно, куриным шагом, с опаской ощупываю холодную мокрую землю, оглядываюсь. Так вот она шахта, куда дедушка Никанор опускается каждый день, двадцать лет подряд!.. Холодно. Сыро. Дрожу, зуб на зуб не попадает.
Усатый человек освещает меня и Ваську своей лампочкой (как она здесь ярко светит!), осматривает с ног до головы.
— Кто такие? По какому делу?
— Не узнаешь, дядя Хведор? — спрашивает Васька. — Обед Никанору притащили. Штейгер разрешил. Где сегодня работает дед?
— Все там же, в коренном штреке. Найдешь?
— А чего мне искать? Коногон вот погонит туда партию порожняка, с ним и доедем. Санька, отдыхай!
Мы садимся на скользкое бревно, приваленное к стенке, обшитой побеленным известью кругляком. Я поднимаю босые ноги, жмусь к Ваське — так теплее. Над нами низко, кажется, рукой Достанешь, висит пепельный, как дождевая туча, потолок. Я смотрю на него, и мне страшно — сколько земли над нами. Целая гора. Выше породного кургана, террикона. Вот если рухнет она, это, наверное, и будет выпал.
— Эх, закурить бы!.. — вздыхает Васька. Отколов ногтем от бревна белую щепу, он усердно, со смаком сосет ее, как цигарку, и кивает на усатого человека в отсыревшей одежде.
— Стволовой. Встречает и провожает клеть на-гора. А это рудничный двор, — Васька машет рукой на тесное пространство перед клетью, забитое порожними вагонами. — Папашка мой пять годов работал около ствола. Все кости насквозь промокли. Потому и водку теперь хлещет — отогревает, сушит кости. Понял? Вырастешь, не поступай в стволовые.
— Я в чугунщики поступлю, на завод.
Васька с презрением смотрит на меня, плюет себе под ноги, изрекает:
— В чугунщики!.. Ну и дурак! Папашка говорит, что на заводе одни лодыри чистотелые работают, а в шахте — молодцы, кто ни черта, ни бога, ни смерти, ни самого Шубина не боится. Я в шахтеры…
Я молчу. Вспоминаю давние, полузабытые рассказы дедушки Никанора о Шубине — шахтном домовом. Он рогатый, на четырех ногах. В лохматой шкуре. Глаза горят. Где появляется Шубин, там непременно быть завалу, выпалу, крови, смерти. Забой, оскверненный Шубиным, закрещенный забой: ни один шахтер не пойдет туда работать ни по своей, ни по чужой воле.
— А здесь есть Шубин? — спрашиваю я у Васьки и со страхом вглядываюсь в темные, холодные и сырые углы рудничного двора.
— Как же! На каждой шахте есть свой Шубин. До поры до времени он отлеживается в старой выработке, лапу сосет и ждет, пока какой-нибудь дурак выведет его из терпения.
— Из какого терпения?
— Не знаешь?.. Значит, тебе дед Никанор ничего не рассказывает?
Мне не хочется давать дедушку в обиду, и я говорю:
— Не успел он рассказать про это… Про все рассказал, а про терпение не успел. Рассказал бы, Вась.
Васька не ломается, не заставляет себя долго просить.
— Мой папашка видел Шубина и говорил с ним…
— Видел и говорил?!
— Было это зимой, на рождестве… Папашка сидит в забое, сосет из мерзавчика водку, заедает цибулей… Выдул весь шкалик до дна, взялся за обушок, замахнулся, а ударить в пласт не успел… слышит за спиной голос: «Стой, Коваль!..» Оборачивается и видит рогатую морду, шкуру седую, глаза огненные… Папашка выронил из рук обушок, обмер. А шкура рогатая человеческим языком долдонит: «Я Шубин, шахтерский бог. Слыхал?» Папашка лопочет: «Слыхал, слыхал!.. Чего изволите, господин шахтерский бог?!» Бог подумал-подумал и сказал: «Бери обушок и уходи отсюдова. Уходи и помни: еще раз выпьешь в шахте зелья проклятого, удушу тебя, вонючего, в завале. Удушу и детей твоих, не пожалею. На-гора пей хоть в три горла, а тут, в моем царстве-государстве — ни-ни, ни единой капли не смей…» С тех пор папашка всегда в шахту спускается тверезый… Понял теперь, что такое терпение Шубина?
Я пожал плечами, покачал головой. Не понял, честное слово, ничего не понял. Васька пожалел меня:
— Ну и бестолковый ты, Санька, как я на тебя погляжу. Шубин жизнь шахтерскую охраняет. И душу. Чуть кто покривит душой, с кривдой дружбу заведет, шахтерские порядки начнет топтать — Шубин сразу теряет терпение…
Я осмеливаюсь перебить Ваську:
— Слушай, Ковалик, а ты знаешь, что такое выпал?
Васька важно надувает губы, хочет ответить, но я ему не даю говорить, затыкаю рот.
— А я вот знаю! Я видел настоящий выпал на юзовской шахте, на Раковке.
Жду изумления Ковалика, а он презрительно смотрит на меня, осуждающе качает головой:
— Брешешь ты, Санька. Ох, и брешешь! Так брешешь, что мои уши чешутся… Дурак, дуралей, выпала нельзя видеть. И слышать нельзя. А кто услышит, того поминай как звали. Понял?
— Вот я таких и видел, кого поминай… Ванечка там был, на тебя схожий…
— Тсс!.. — Васька сжимает мне руку и, вытянув голову в темноту, напряженно прислушивается.
— Идет!.. — шепчет он.
— Кто? — Губы мои прыгают, ноги и руки холодеют.
— Коногон идет! Слышишь, волну впереди себя гонит?
Но проходит еще немало времени, пока и до меня доносится приглушенный стук колес вагонеток, топот конских копыт и свежий ветер — волна. Потом в глубине темноты прорезывается слабый желтый огонек и слышится лихой разбойничий свист. Огонек быстро увеличивается, шум колес нарастает свежий ветерок крепчает, разбойничий свист рвет барабанные перепонки… Я жмусь к Ваське, закрываю глаза, жду, что и вагоны, и лошадь, и свист, и волна сейчас обрушатся на меня, сомнут, раздавят, растопчут. Но опять мой страх оказался напрасным. Неожиданно, как и при спуске в шахту, становится тихо и почему-то резко пахнет конским потом и продегтяренной кожей. Открываю глаза и вижу перед собой белую-белую лошадь. Вся она рафинадно-белая — морда, грива, хвост, спина, бока, ноги. Черные только глаза и влажные отвислые губы. Лошадь сверлит меня своими черными глазищами, фыркает и просяще чмокает губами. Морда у белянки голая, без уздечки, а на шее хомут.
Васька толкает меня, улыбается:
— Ишь, как Голубок обнюхивает тебя!.. Чует, собака, шо ты недавно с вольного воздуха.
Не вольный воздух чует Голубок, а хлеб.
Я запускаю руку в заветный дедушкин узелок, отламываю кусочек от краюхи и на раскрытой ладони подношу к морде лошади. Мягкие прохладные губы аккуратно берут хлеб, и вслед за этим белая чубатая голова начинает быстро опускаться и подниматься: спасибо, мол, люди добрые.