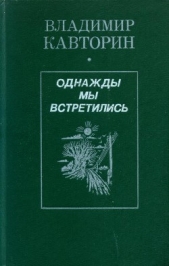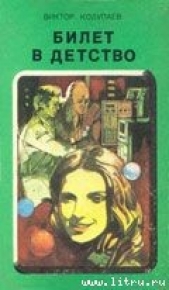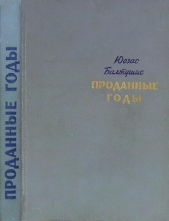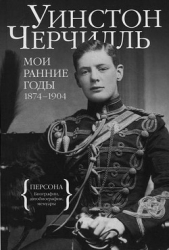Раноставы

Раноставы читать книгу онлайн
В первой книге курганского прозаика, участника зонального совещания молодых писателей Урала 1983 года, речь по преимуществу идет о селе военной и послевоенной поры, о том трагическом, но по-своему замечательном времени, увиденном глазами ребенка. Автор стремится донести до читателя живую колоритную речь своих земляков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Кум!
— Оринка!
Мы с Ленькой, кукся спросонья глаза, один за другим со свистом скатились по лощено-укатанной доске с полатей на верхний голбчик и, как два новых гривенника, вытоконились у порога.
— Проходите, проходите, — радостно ворковала мама, настежь раскрывая двери. — Ради Христа, не заслоняйте лампу, — прикрикнула на нас и попутно отвесила по легкой оплеухе.
Заскрипели половицы.
— Милости просим, — вдругорядь приглашает мама.
Слабый свет керосиновой лампы выхватил из потемок тросточку и одновременно тупорылый, с высоким взъемом сапог. Сысподтиха появился кряжистый, невысокого роста человек в мокрой шинели.
— Лелько! — бросился братишка на шею дяди.
— Крестник, узнал? — обрадовался тот и вдруг пошатнулся. Чтобы не упасть, широко расставил ноги и крепко прижал нас обоих: — Выросли-то как! Посмотрел бы на вас отец.
Мать заревела и повалилась. Ее тут же подхватили тетя Нюра с Онисьей:
— Успокойся, Орина, успокойся.
Мать причитала, закрыв глаза ладонями. И мы, два своробливых цыпленка — один чуть больше другого, — голосили в один голос.
— У, ек-макарек, — сконфузился дядя Вася и начал горячо оправдываться. — Я не об етом, неправильно вы меня поняли. Слышите? — И ликующе зазвенел над нами: — Жив, робята, отец! Не плачьте, радуйтесь. Жив, кума, жив Федьша! — Он поочередно — то Леньку, то меня, то подбежавшую маму — тискал в огромных руках и все одно и то же твердил: — Жив, жив, жив…
— Неуж ето правда? — все еще не веря дяде Васе, всхлипывала мама, растирая ладонями слезы на щеках и подбородке.
— Говорю, жив.
— Твои-то бы речи да богу навстречу, — сквозь затихающие слезы радостно проговорила мама. Она постепенно отходила, оттаивала, в ее глазах запрыгали метлячки-бесенята. Мать наконец заметила, что дядя Вася все еще стоит.
— Чо ты, кум, стоишь? — Подтащив скамейку, она затараторила: — Садись, садись, небось, измаялся в дороге.
— Девки вот измаялись, хлебнули со мной горюшка, — усаживаясь на скамейку и доставая вышитый с гарусными бальками-кистями кисет, кивнул он тете Нюре и Онисье. — Сами от места до места пешедралом, а я сидел на передке, как барон, кум королю и сват министру.
— Нам привычно, — отвечала Онисья, запахивая брезентовый дождевик, и с порога добавила. — Вы беседуйте, а мне некогда. Надо горючее отвезти на полевой стан. Не ближно место. До поспеловских избушек ишо четыре версты.
— Когда только спать-то будешь, голубушка? — тревожно спросила тетя Нюра.
— На ходу покимарю.
Двери захлопнулись, и мы придвинулись к дяде Васе, уселись на пол, а мама с тетей Нюрой с разных концов скамейки зажали его в середке. Дядя молчал и, часто затягиваясь, курил.
Мать положила на дядино плечо руку и тихо попросила:
— Кум, расскажи, где, как встретились с Федей-то?
— Привезли, значит, меня в госпиталь, во Ржев. Был без памяти. Очнулся — ничего не понимаю. Кто проклинает фашистов, кто зовет мать, родных, а кто костерит смерть, которая никак не приходит. Еле разобрался, что к чему. В госпитале! Рванулся к ногам, а вместо их пустые штанины, подвернутые и привязанные чуть повыше коленок. «Где ноги, где? — взревел я. — Где, где?» Подбежала сестра. Она испуганно дрожала: «Что случилось, голубчик? Что с тобой?» — «Зачем отпласнули ноги? Кому я нужен теперь? Кому, а? Скажи, ну…» — «Все будет хорошо. Вот увидишь, — успокаивала сестра. — Плясать еще будешь». Долго не мог остыть. Всех богов и богородиц собрал в кучу, крестил почем зря, досталось всем назакрошки.
Вдруг слышу: «Сестричка, пить, пить…» Голос довольно знакомый, словно вчера его слышал. Спрашиваю у сестры: «Кто это?» — «Офицер. Только что поступил в госпиталь». — «Спроси, откуда он?» Через минуту отвечает: «Из Шадринска». Меня полоснуло прямо под сердце. Готов выпрыгнуть из носилок. И выпрыгнул бы! Но здорово сдавили ремни. Я закричал: «Земляк, землячок!» Из коридора донеслось: «Садков!» — «Вынесите меня!» — кричу сестре. То же самое, слышу, просит Федор. Сестры, видимо, напугались: ненароком вывалимся из носилок, нарушим себя. Бегают, уговаривают: «Успокойтесь, не волнуйтесь, нельзя вам». — «Какого черта нельзя! — Я в белом каленье. — Несите! А то сам поползу».
Вынесли меня в коридор. Носилки, в которых лежал Федор, держали санитары. «Федьша!» — рванулся я к нему. «Сютка!» — Он почти шепчет: ему перехватило горло. Мы оба на пределе. Из глаз брызжут слезы. Боремся с собой, не получается. А время идет. Наконец-то кум берет себя в руки и приподнимается на локтях. Его держит сестра. «Пустите меня, пустите». — «Лежите», — приказывает сестра. «Да есть ли у вас сердце? Вы знаете, кого я встретил, а? Это же кум, кум!» И вроде как сам себе не верит, кричит через плечо сестры: «Ты ли, кум?» — «Я, я, Федьша». — «Счастье-то какое! Кто бы мог поверить, а?»
По коридору шел военврач. Мы поняли: нашей встрече конец. Надо было о многом спросить. А в голове крутится. Ничего дельного не приходит. Спрашиваю: «Рана, кум, серьезна, нет?» — «Терпима. А у тебя?» — «Всего изрешетило. Не знаю, где и болит». — «Значит, посел в госпитале?» — «Отвоевал я, дружище. Баста».
«В операционную», — последовала команда. «Подожди, доктор. Друга встретил», — умоляюще просит Федор. «Быстро», — приказал врач санитарам.
Федор метался, носилки водило из стороны в сторону. «Кум!» — крикнул он напоследок. Наверное, что-то хотел передать, но дверь захлопнулась. Меня занесли в палату.
Дядя рассказывал, не выпуская самокрутки: одна тухла, другую закручивал.
— Больше не встречались? — спросила мама.
— Не довелось. Меня готовили к операции. Кума вскоре выписали. Узнал я это из записки.
— Какой? — встрепенулась мама, будто зацепилась за что-то важное.
— Не сберег я ее. На газетном обрывке было написано. Наверное, искурил. Я и так ее помню.
— Что писал Федя?
— «Меня выписали, ушел на фронт. Будешь дома, передавай привет, что жив, мол, и здоров, того и всем желает. Обними за меня всех».
— И только?
— Что бы ты хотела?
— Да нет, я так… — Мать проглотила накативший в горло комок, встала, забренчала подойником.
На улице уже рассветало, но по-прежнему дождливо. Ненастью не было конца. Хоть бы нарочно где-нибудь просветинка была. Ни одной. Все обложило.
Мама кое-как подоила корову, и Ленька угнал ее в пастушню.
Дядя Вася, утомившийся от дороги и бессонной тяжелой ночи, отстегивал протезы, а я сидел на нижнем голбчике, пристально всматриваясь в его движения. Оба протеза он впихнул под деревянную кровать. Без ног дядя стал похожим на колобок. Он легко закинул замотанные в белые штанины культяпки и закрылся шинелью.
Мама хлопотала на середе. Она процедила сквозь цедок молоко, достала с грядки сельницу, глиняную латку с выломленным краем и поставила на столешницу. Из нее, поднимаясь шапкой, выпирало тесто.
— Гли-ко, Нюрка, как тесто поднялось, славная квашонка доспелась, а даром, что половина суррогату. Давно такой удачи не было, — радовалась мама, сбивая мутовкой тесто.
— Поди, пора затоплять печь? — спросила тетя Нюра.
— Да пропади она пропадом.
— Чо ты на нее рассерчала?
— Дымит, окаянная.
— Давай замажем.
— Вся она рассыпалась, перебирать надо. Лонись ее дедушко Евлентий погундорил немного, а теперя снова дымит.
— Разве дедушко-то живой ишо?
— Овечек караулит.
— Поди, такой же смешной?
— Какой больше! Тут как-то говорит: «Молодость вспомнил, девки». И достает с грядки балалайку. А она, как есть, без струн. Натянул не то веревку, не то проволоку в палец толщиной и давай натренькивать:
Да так разошелся, что не унять. Притаптывает чунями да поет: