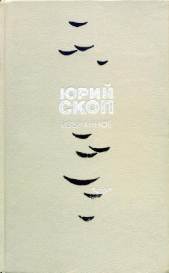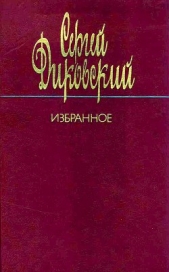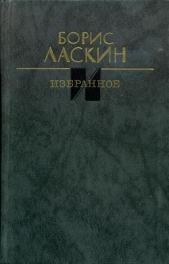Избранное
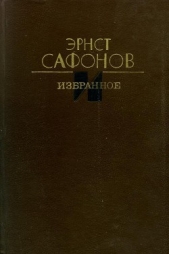
Избранное читать книгу онлайн
В книгу известного писателя Э. Сафонова вошли повести и рассказы, в которых автор как бы прослеживает жизнь целого поколения — детей войны. С первой автобиографической повести «В нашем доне фашист» в книге развертывается панорама непростых судеб «простых» людей — наших современников. Они действуют по совести, порою совершая ошибки, но в конечном счете убеждаясь в своей изначальной, дарованной им родной землей правоте, незыблемости высоких нравственных понятий, таких, как патриотизм, верность долгу, человеческой природе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Давай, давай, — невнятно буркнул Константин.
Дядя Володя промолчал.
Ефрем, подождав, с нескрытой издевочкой поинтересовался:
— А что, Машин, спросить я забывал, ты на войне хоть раз выстрелил?
— Не выстрелил, — сквозь зубы ответил дядя Володя. — Нас под Харьковом с одними саперными лопатками из эшелона высадили. Так и бой приняли, врукопашную… Не стрелял я, Остроумов, чего еще?
— Снимаю вопрос, — сказал Ефрем, — я знаю, Володька, какая она, рукопашная… А все же какую повестку дня утвердим?
— Я утвердил бы, чтоб не надо, — первым отозвался дядя Володя, — чтоб без приключениев на свою…
Константин же, обрывая его, снова нервно спросил:
— Тянем чего? — Рубанул по воздуху тяжелой рукой: — Загорелось — давай! И у ребят начало школы не сорвется!
— Вот именно! — отец громко поддержал.
— Зря, земляки, — упрямо не соглашался дядя Володя, — куда спешить-то? У пацанвы целый год впереди, а из-за них такую опаску примай…
— Та-а-ак, — медленно тянет Ефрем, его верхняя губа в ухмылке угольничком, по-заячьи, ползет вверх, топорща усы, — та-ак… Согласья нету! Получается — отставить.
— Это мнение имею, — неохотно объясняет дядя Володя. — А коли все — я со всеми.
— Так, — тверже произносит Ефрем, — согласье налицо. Однако, дед Гаврила, ты свидетель: каждый тут ответчик за себя, никто никого не понуждал…
— Истинно так!
— Ух, Ефрем! — угрозливо говорит Константин. — Душу тянешь! Я встану — без меня тогда игра, Ефрем…
— Сергей Родионыч, тащи из школы носилки.
— Сейчас, сейчас… — И отец трусцой бежит к школьному дому; его худые острые лопатки под сатиновой рубахой — как цыплячьи крылышки: взмахиваются, а не взлетишь… (Ваня готов был следом броситься — лучше б он за отца носилки припер, а то будто мальчик отец побежал, а Ефрем ему в спину смотрит, а мог бы и сам Ефрем сходить, чем смотреть, потому что отец учитель да еще младший лейтенант административной службы, офицер, не кто-нибудь, ему старшина обязан подчиняться, первым честь отдавать, а не лежать, и пусть отец не совсем лейтенант, младший — зато все равно главнее старшины!..)
День же заметно слабеет, расплывчатей тени, глуше случайные звуки, и хоть сумерки еще далеко, таятся за лесом, но неуловимое предчувствие вечера уже закрадывается в сердце.
Приподнимаясь на локте, Константин, веселея лицом, произносит нараспев:
— «Шла-то она не путем, не дорогою, а глубокие реки, озера широкие те она плывом плыла, а мелкие-то реки, озера неглубокие те она бродом брела…»
— Молитва?
— Не, Ефрем! — Константин улыбчиво обнажает крепкие белые зубы, ровные, тесно пригнанные один к одному (Ваня с ревнивой завистью опять подмечает: «А у папки не вырастут никак…»), и поясняет: — То из былины. Адмирал приезжал, специально слушал, как я на лидере матросам-братишечкам старинные былины наизусть читал… Для поднятия патриотизма! Голосом читал вот так… «Да прошла ли она заставу великую и чистые поля те широкие…»
Константин смеется, показывает кивком Ефрему вдаль, и все смотрят, куда он показал, — видит Ваня: через луг, косыночкой, по обыкновению, помахивая, его мать идет… Обернулся — отец от школы носилки волоком тащит.
— Дает же бог кому-то счастье, — тихо и с опаской взглянув на него, Ваню, говорит дядя Володя Машин.
— Счастье, — задумчиво повторяет Ефрем, — счастье такое, что не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
Он встал на ноги, подпоясал гимнастерку, кривясь, будто на себя сердитый, сказал:
— Отменяется, славяне. Нечего, между прочим, судьбу пытать. А ну-тка она… с ней расписку не возьмешь! Будем звонить, пиротехников вызывать.
— И то, Ефрем, — обрадованно подхватил дядя Володя. — Пожить-то хочется!
Никто — ни Константин, ни переводивший дыхание, с носилками в руках отец, ни дед Гаврила не возражал.
Можно было б разойтись, — отец взял на себя охрану бомбы, дед Гаврила в помощники ему поступил, — можно и разойтись, но мужики продолжали сидеть у складской стены, почесывались, дымили самосадом и Ефремовыми папиросками, пересмеивались, и что-то крылось в их осторожном смехе, на Ефрема с затаенным одобрением поглядывали, словно тот дал им что-то такое, отчего жизнь повеселела, легким ветром унеслись неприятные заботы… Не только мать — другой народ собрался подле, шумно стало, как на бригадном собрании, а дед Гаврила громко врал бабам: бомба оставлена для всеобщего испуга немцем Карлом, он ее сюда по приказанию графа ровно на тридцать лет заложил, предназначено ей взорваться в сорок седьмом году, да, выходит, не рассчитал сбежавший управляющий, что учитель облюбует тут местечко для школьного сортира… А Майка дергала Ваню за рубаху, дрожали в восторге ее конопушки, спрашивала:
— Ты видал ее? Покажешь, Ванечка?
Мать поодаль ото всех сидела на траве, туго натягивая сарафан к щиколоткам ног, у которых прилег дядя Володя Машин, — смотрел он, задрав голову, на мать, пояснял ей:
— А чего надрываться — такую чушку тащить! Пупок развяжется. Солдат пригонят, им харч за службу идет, они и вытянут бомбу… Я ж опосля, обещал, над ямой дворец ребятенкам выстрою, для облегченья учебы им… За Сергей Родионычем поллитра опять же, а ты, Алевтина, закуску готовь…
— Я отныне когда-нибудь тебе приготовлю, — хмуро пообещала мать и отвернулась.
— Чего ты… чего… — Дядя Володя поморгал глазами, однако слов никаких не отыскал, лишь улыбнулся криво.
Подошел отец, присел рядом с матерью; поковырял ногтем потрескавшиеся головки сапог, сказал:
— Неладно-то как, некстати… Вот выявилась!
— Как еще не стрельнула она! — мать головой покачала.
— «Стрельнула»! — Ваня даже подскочил в возмущении. — Стреляет, мамк, винтовка, а эт бомба!
— Пускай, — сказала мать.
— Ого! — Ваню сердило такое женское непонимание. — Она взорвется — склад на кирпичики! Все зерно — по зернышку!
— Скла-ад?
— Я б сейчас, она если б стрельнула, уже в воздухе, растворимшись, плавал… с богом беседовал! — хвастливо заметил дядя Володя. — Я ее, Алевтина, лопатой долбил.
— Неужто она склад достанет?
— Да, — отец подтвердил. — Ефрем говорит. Он такие на фронте видывал…
— Ну если Ефрем… — Мать прядку волос со лба отвела и согласилась будто б, поверив и ужасаясь. — Она б тогда весь хлебушек наш, все труды…
— «Хлебушек»! — Дядя Володя недобро усмехнулся. — Пожалела ты, Алевтина… А как бы меня она подорвала — это как называется?! У нас человек дороже всего… иль, допустим, для кого как?.. иль неправду в газетах пишут, по радио передают? А, Алевтина? И гляди-ка, Сергей Родионыч, не замечаешь, можть, как со стороны Алевтины нам с тобой вроде б доверья нет… Надоть на Ефрема ссылаться, чтоб убедить… Вот Ефрем ежели сказал — ему доверье.
— Поговори! — с досадой обрезала его мать, мимолетная гримаса ненависти передернула ее лицо; сказала с вызовом: — А на тебя разви понадеишьси… помело!
— Не мешайте нам, Владимир Васильевич! — строго сказал отец. — Оставьте нас!
— Перетерпим. — Дядя Володя встал и пошел прочь.
Рот у отца приоткрыт; видны припухлые, морковного цвета десны с осколками зубов, — и печалится Ваня: головками ест отец чеснок, не напасешься, обещает, что новые вот-вот проклюнутся, вырастут, такие же белые, как дольки очищенного чеснока, но где они, новые зубы?
— Сережа, — у матери в глазах слезы, — сколько они мне в глаза тыкать будут? Ты ж знаешь… А им разви знать, как мы с тобой, Сереженька?.. Их давние блохи грызут — на меня они с того вскидываются. В молодости глупа была, кто тогда не глуп, а сейчас-то? На что, Сережа?
— Хватит, хватит, — пробормотал отец, нашел пальцы матери — погладил своими. Поднялся он, к Ефрему и матросу Константину пошел; мать лицо отвернула; косыночку на щеки пододвинула, чтобы кто другой случаем не увидел ее закрасневшихся глаз.
Прощался со всеми Константин, прощался до вечера, приглашая к себе в гости. Пошагал он лугом, легко неся свои дорожные вещички, — ветерок трепал за его спиной ленты бескозырки и широкий синий воротник, похожий на кусочек вспененного моря.