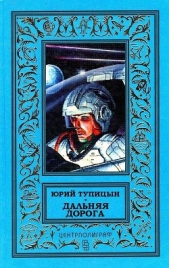Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе.
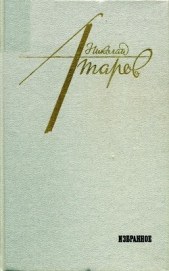
Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. читать книгу онлайн
Однотомник избранных произведений известного советского писателя Николая Сергеевича Атарова (1907—1978) представлен лучшими произведениями, написанными им за долгие годы литературной деятельности, — повестями «А я люблю лошадь» и «Повесть о первой любви», рассказами «Начальник малых рек», «Араукария», «Жар-птица», «Погремушка». В книгу включен также цикл рассказов о войне («Неоконченная симфония») и впервые публикуемое автобиографическое эссе «Когда не пишется».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она слабо пожала ему руку выше кисти. Чутье безошибочно подсказало ему: что-то, может быть, на минуту растопило ее горе, примирило с жизнью, и она ищет помощи.
Вышли с кладбища — Оля заторопилась. Вспомнила, что няньку отвезли родственники в Дикий поселок. Она поедет ее навестить. Она не может остаться у себя. Поедет одна — ну, пожалуйста, одна… И ночевать там останется. Пусть только Митя устроит, чтобы привезли нянькины вещи, они в прихожей. Может быть, позвонить Пантюхову? Говорила быстро, но была очень спокойна на вид.
Вся остальная часть дня прошла в безуспешных поисках грузовика. Не выполнить просьбу Митя не мог — он должен был доставить вещи Прасковьи Тимофеевны в Дикий поселок. Но в гараже автобазы, должно быть, забыли про приказ Пантюхова. Или сам Пантюхов забыл отдать приказ? Митя напрасно прождал у подъезда Олиного дома до шести часов вечера. Отчаявшись, он решил искать Чапа — тот со всеми знаком, всех шоферов окликает на Асфальте.
Странно сложились их отношения. Встретившись после зимних каникул, Чап стал заговаривать с ним, как будто не было того вечера на бульваре, когда казалось, все кончено, дружбы нет. Но, может быть, дружбы и в самом деле больше не стало? Чап по-прежнему среди одноклассников предпочитал Митю Бородина как собеседника в рассуждениях по поводу атомной физики — на эту тему он мог говорить бесконечно, с одержимостью фанатика. Но о себе или о Митиной дружбе с Олей — ни слова. От прежней откровенности не осталось следа.
Приходу Мити Чап нисколько не удивился. Он сидел, нахмурясь, перед радиолой, стоявшей на табурете. Тот же обычный чаповский беспорядок: куски жести, мотки медной проволоки, банки с политурой, красками, угол комнаты, завешенный чем попало, — там фотолаборатория. Над головой Чапа, на стене, висел плакат с надписью, не требовавшей пояснений: «Седалище упрямого приводит в движение турбины».
Митину просьбу Чап выслушал рассеянно. Он был хмур и злобен.
— Так что же, Чап, поможешь?
Чап поднял голову.
— А ты похудел, — заметил он и, сняв с гвоздя брюки, стал переодеваться.
Все остальное оказалось проще простого. Чап достал машину. Подкатили на грузовике к Олиному подъезду. Шофер, неизвестно чем обязанный Чапу, помог вынести старинный казачий сундук. Сверху Митя бросил мягкий узел, завязанный в тот нянькин платок, которым когда-то размахивала Ирина Ситникова, танцуя «Сегидилью». Грузовик помчался в северную часть города, в сторону Дикого поселка, разбросавшего свои мазанки вдоль отлогих берегов реки-канала. Облокотись на крышку кабины, Митя и Чап стояли в кузове; ветер бил в их лица.
Они мчались мимо механических мастерских и камнедробилок, оставшихся с тех пор, как строилась плотина гидростанции, создавался в степи город. Грузовик проскочил под поднятыми железнодорожными шлагбаумами. Шоссе вильнуло в сторону реки. Открылись ровные, однообразные берега и дамбы, ограждавшие от затопления низкую равнину. Машина бежала мимо шоколадных срезов открытого грунта, корявого кустарника, помятого еще в годы великих работ. В растревоженной человеком местности на всем лежал отпечаток незавершенности. В то же время эта перевернутая природа вызывала чувство гордости за человека и обязательную мысль о будущем. Митя задумался об этом, — в первый раз он думал не о смерти Олиной мамы. Ошеломил неожиданный вопрос Чапа.
Тот прокричал ему в ухо:
— Теперь ты женишься на Оле?
— С ума сошел!
Все эти дни бежать на помощь Оле, быть вместе с нею, делать для нее все, что понадобится, — это стремление сдерживалось в Митиной душе боязнью, чтобы не слишком было заметно людям его отношение к Оле, чтобы не истолковали грубо и неправильно. И он не знал точно, как себя держать, чтобы нечаянно не оскорбить ее достоинство, пока не догадался наконец, что все окружающие Олю видят в нем человека, имеющего обязанности и право оберегать Олю. Но ни это, ни молчаливое признание их отношений тетей Машей, ее подругами, товарищами — ничто не давало Мите повода думать так, как подумал Чап.
— А летом — с ней? — спросил Чап.
— Да, летом едем вместе в лагерь. Так хотела и Олина мама.
Грузовик летел по шоссе. Все выяснив, что было ему интересно, Чап молчал, озирался по сторонам, потом придвинулся ближе к Мите, стал кричать в ухо:
— Живем очень быстро! Вчера смотрю — маляр какой-то, с ведром, с кистями, трамвай подгоняет. Только что кнутом не подхлестывает! Смеешься? Правду говорю: повис на ступеньках, на задней площадке, свесился, орет: «Давай, сатана, давай!»
Это специальность Чапа — загадывать загадки. Какой был, такой остался. Что навело его на это воспоминание — быстрая езда или мысль о Митиных отношениях с Олей? Если второе, то глупо.
В воротах дома, стояла понурая лошадь, лениво перебирала на длинных зубах клок сена. Мальчишка отогнал ее, а то бы она не подвинулась с места. Грузовик въехал на крутизну двора, где в глубине на косогоре стояла белая мазанка. Это и был домик Глаши, нянькиной племянницы. Никто не вышел из низкой двери. Митя и Чап выпрыгнули из кузова; шофер вылез из кабины и открыл борт. Двое мальчишек глазели на прибывших. Собака надрывалась на цепи.
Прасковья Тимофеевна появилась не сразу; странно выглядело ее опухшее, тяжелое лицо. Митя вгляделся и понял: без очков. Может быть, разбила.
Лениво, будто нехотя, повела она мальчиков за мазанку, где стоял не видный со двора сарай. Распахнутый, с покатой, спускавшейся в чертополох крышей, он показался Мите гнездом бедствий, когда нянька, показав коричневой рукой на открытую дверь, сказала:
— Сюда несите, хлопцы, спасибо вам.
Митя подошел ближе к дверям — там посередине стояла высокая никелированная кровать, чисто постеленная, с высоко взбитыми подушками. Сквозь щель в задней стене можно было разглядеть, как на задворках в глинистой воде барахтались утки. Над кроватью летала желтая бабочка.
— Это что же, Прасковья Тимофеевна, ваше место? — оторопело спросил Митя.
— Сама выбрала. Лето впереди. На воздухе дышится вольнее. — Старуха не заметила его тревоги.
Чап с шофером уже несли нянькин сундук.
— Где же Оля?
— В милицию пошла, насчет моей прописки.
Вдруг на ее глазах выступили, точно брызнули, слезы. Лицо сморщилось, губы потекли вниз, удлинились складками морщин.
— Что ж, так оно все и бывает. Оленьку я не брошу, не покину, ты не думай. Пусть пензию-то собирает на книжку. Пригодится. А Глаша нас прокормит, все равно через руки сыплется. Вот погоди, из ларька вернется — все тебе расскажет: может, и Олю на лето пристроит в пивной ларек. Глашка — баба-орел, не в меня, нет.
— Что вы выдумываете?! — крикнул Митя. — И зачем вы уехали? Это ж надо додуматься — Олю в пивной ларек!
— Да ты не шуми. Я Олю завтра отвезу домой, а сегодня мы вместе… — Старуха показала растопыренными пальцами на свою белоснежную, освещенную солнцем кровать. — Света тут мало, а в доме того хуже — тесно. У Глаши непрописанных — вся деревня…
Видно было, что старая растерялась. Наверно, она перебралась к племяннице с чувством облегчения: пусть и о ней позаботятся, пришла пора. А Олю ей было стыдно бросать, и она решила ее судьбу по собственному и Глашиному разумению, но сквозь тяжелое похмелье совестилась этого разумения.
Митя вышел за ворота. Девочки пасли черных козочек. Грязная хата напротив, через улицу, была заброшена, — видно, уехал жилец: досками забиты окна. Зато рядом, в чистом домике, в окне за геранями, виднелась девичья головка; должно быть, только что попили чаю, старуха вынесла самовар на крыльцо; слышно, как хозяйка моет посуду — звенят чашки и блюдца в полоскательнице. Жизнь поселка — с ее убогостью и достатками вперемежку — со всей откровенностью раскрывалась перед Митиными глазами. Война разрушила город, но, кажется, ни одна бомба не свалилась на эти хатенки, возникшие еще тогда, когда на стройку приходили грабари из деревень и наскоро лепили себе временное жилье.
Позади, во дворе, сигналил шофер, звал Митю. А он все глядел по сторонам. И скучные козочки, и самовар, и заколоченное окно, и огородное чучело — все заставляло его сердце биться в тревоге за Олю, которая осядет здесь, поступит продавщицей в ларек, и тогда засосет ее Глашино болото. Чувство несправедливости, какой-то большой, еще никогда им не пережитой несправедливости сжало его сердце. Он не увидел Олю в тот вечер, хотя искал ее и в поселковом отделении милиции, и на улочках, сбегавших к реке. Шофер сигналил, торопил. И Митя, когда они примчались в город, чувствовал себя усталым, как будто перетренировался.