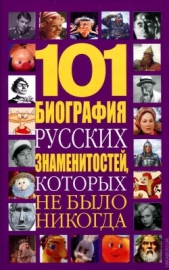Биография

Биография читать книгу онлайн
В новую книгу писателя-фронтовика Юрия Додолева вошла повесть «Биография», давшая название сборнику. Автор верен своей теме — трудной и беспокойной юности военной поры. В основе сюжета повести — судьба оказавшегося в водовороте войны молодого человека, не отличающегося на первый взгляд ни особым мужеством, ни силой духа, во сумевшего сохранить в самых сложных жизненных испытаниях красоту души, верность нравственным идеалам. Опубликованная в журнале «Юность» повесть «Просто жизнь» была доброжелательно встречена читателями и критикой и удостоена премии Союза писателей РСФСР.
Произведения Ю. Додолева широко известны в нашей стране и за рубежом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вначале, пока в кармане были деньги, — я удачно сбыл на пристанционных базарчиках вторую пару нательного белья и не налезавшую на меня одежду, оставшуюся с довоенных времен, — мне все нравилось, все приводило в восторг — и море, и пальмы, и вечнозеленые кусты, и темноволосые женщины с четким профилем, с какой-то непонятной печалью в глазах, и обилие продуктов на базарах. Когда деньги кончились, я перестал любоваться морем, не обращал внимания на темноволосых женщин. Не найдя ничего лучшего, нанялся грузчиком. Таскал на спине тюки и мешки, питался кукурузными лепешками, брынзой и мацони. Потом в груди под шрамом появилась боль. Я вынужден был взять расчет, подрядился собирать мандарины. В первые дни, наевшись до отвала, думал: «Житуха!» Через две недели не мог смотреть на них, а есть и подавно. Промаявшись несколько дней без работы, устроился ночным сторожем в какую-то контору. Сидя с берданкой на ступеньке крыльца, я слышал рокот волн, шуршание гальки, иногда клевал носом, но сразу же вскидывал голову, когда возникал подозрительный шорох. Чаще всего я думал о себе, о своей жизни. «Неужели мой удел таскать тюки, собирать мандарины, сидеть с берданкой?» — спрашивал я себя. Я чувствовал, что способен на что-то, а на что — не мог понять. Это «что-то» постоянно было во мне, заставляло думать, сравнивать, вспоминать. И хотя я не хотел вспоминать Люсю, она часто вставала перед глазами…
Еще в Вольске я получил письмо от мамы. Одна фраза взволновала меня: мама сообщила, что Ореховы в Москве. В тот же день я накатал Люсе письмо. Через три недели, держа в руке конверт, не «треугольник», а настоящий конверт, на котором Люсиным почерком была написана моя фамилия, я чуть не припустился от радости в пляс. Прочитав письмо, понял — радовался напрасно.
Теперь я уже не помню всего, о чем писала Люся, но несколько строк остались в памяти. «Позавчера встретила Болдина — он и Сиротин снова учатся в Москве. Болдин стал таким красавцем, что с ума сойти можно: глаза — в жизни таких не встречала, шинель, как влитая, остроумен, галантен — словом, мечта» — так написала Люся.
Я расстроился, даже на ужин не пошел. «Что бог послал» примчалась в палату, начала расхваливать паровые биточки с отварными макаронами. В ответ я мотал головой и твердил: «Не хочу!»
Письмо от Люси я получил в конце октября 1943 года. Шли дожди. Волга поднялась, как тесто в квашне, стала темной, суровой. Я ожидал комиссию, на которой должна была решиться моя судьба. Однопалатники говорили, что меня, скорее всего, признают годным к нестроевой службе и я навряд ли попаду на фронт. С одной стороны, было страшно снова испытать и увидеть то, что я уже испытал и увидел. С другой стороны, мне не хотелось кантоваться в тылу. На комиссии я уверенно сказал, глядя на начальника госпиталя, что чувствую себя превосходно. Он одобрительно кивнул, предложил признать меня годным к строевой службе, предоставил мне отпуск на пять суток, включая дорогу.
Я прибыл в Москву в середине ноября. В морозном воздухе носились «белые мухи» — предвестницы снегопада, ветер толкал в спину, словно бы подгонял к дому, откуда я ушел в то злосчастное утро и куда страшно хотел возвратиться, но возвратиться «чистым», и теперь это сбылось. Я радовался предстоявшей встрече с мамой и бабушкой, мечтал повидать Люсю, но еще не решил, как поведу себя с ней: может быть, только кивну, может быть, сдержанно поговорю. О Болдине и Сиротине я не думал, не сразу узнал их среди шагавших мне навстречу людей, понял, что это они, когда мы уже разминулись. Я и Болдин обернулись одновременно. И одновременно мы изобразили на лицах радость.
— Ба! — сказал Болдин. — В отпуск или насовсем? Задержав взгляд на моих обмотках, он усмехнулся. Одет я был неважно: коротковатая шинель, видавшие виды бутсы, выцветшие обмотки. Колька и Петька выглядели пижонами в тщательно отутюженных брюках навыпуск, в новеньких шинелях. На Болдине шинель действительно сидела, как влитая; фуражка с голубой окантовкой, с искусственно приподнятой тульей делала его выше.
Колькина усмешка взбесила меня. Я решил послать его куда подальше, но посмотрел на Петьку и передумал. На Петькином лице была почтительность, которая часто возникала на лицах невоевавших, когда они разговаривали с фронтовиками. Обратившись к Болдину, я небрежно сказал:
— Отпуск дали. Всего двое суток пробуду дома, а потом, наверное, снова на фронт.
На Колькином лице что-то дрогнуло.
— Слышал, у тебя неприятность была?
— Какая неприятность? — Я прекрасно понял, на что намекал он.
Болдин перевел взгляд на Петьку. Сиротин промолчал, и тогда Колька выдавил:
— Верно, что тебя судили?
«Плохое не скроешь, а на хорошее часто не обращают внимание», — подумал я.
— Было.
— Нехорошо, нехорошо. — Болдин покачал головой, как это делают взрослые, разговаривая с детьми. — Всего ожидал от тебя — только не этого.
— Судимость снята! — выпалил я и сразу же обругал себя за торопливость, за желание оправдаться.
Болдин хмыкнул:
— Такое пятнышко на всю жизнь останется.
«На всю жизнь?» — ужаснулся я и, разозлившись, воскликнул:
— Ну и пусть!
— Не психуй, не психуй. Сам виноват и еще психуешь.
«А ты… Чем ты лучше меня?» — пронеслось в голове. Захотелось поддеть Болдина, спросить, почему он до сих пор не на фронте. Но я ничего не спросил: 1926 год только начали призывать; Болдин с присущей ему насмешливостью мог «разъяснить» мне это, и получилось бы, как всегда, что он прав.
— Пойду, — заспешил я. — Мать и бабушка не подозревают, что я уже в Москве.
— И нам пора, — сказал Болдин.
Люсю я увидел в тот же день, случайно глянув в окно. (Случайно? Вот ведь как бывает — даже самому себе иногда лжешь.) Отвечая на вопросы бабушки, сильно похудевшей и постаревшей еще больше, я все время держался около окна, прекрасно осознавал, почему делаю это. После встречи с Болдиным и Сиротиным мое намерение — только кивнуть Люсе или сдержанно поговорить с ней — рухнуло, как карточный домик. Теперь мне хотелось увидеть ее во что бы то ни стало и как можно скорей. «Куда же она подевалась?» — нетерпеливо думал я, продолжая отвечать бабушке. И наконец… Как только Люся свернула с улицы в наш двор, я ринулся к двери.
— Скоро мама с работы придет и будем ужинать, — сказала мне вслед бабушка.
Промчавшись по темному коридору нашей коммунальной квартиры, я кубарем скатился с лестницы, чуть не сшиб Люсю — она вставляла в замочную скважину ключ.
— Ненормальный, — сказала она, и я понял: не удивлена.
— Всего на два дня приехал. — Задыхаясь от восторга и любви, я стал жадно разглядывать в полумраке вестибюля ее лицо.
Она похорошела еще больше. На щеках был румянец, в глазах поволока, из-под кокетливой шапочки с тоненькой полоской меха выбивалась светлая, пушистая прядь. Девочка превратилась в девушку, и я почувствовал, как у меня пересыхает в горле.
Люся молчала, ковыряя ключом в замочной скважине.
— Дай-ка, — я легко открыл дверь.
До войны я часто приходил к Люсе. Был уверен: она пригласит меня к себе, но Люся неожиданно сказала:
— Извини… Забежала переодеться.
Я решил, что у нее свидание с Болдиным.
— Сегодня встретил его.
— Кого?
— Болдина. Он с Петькой бил.
— Да? О чем же вы говорили, если не секрет?
— О тебе мы не сказали ни словечка.
— Вот и хорошо! — Извинившись еще раз, Люся юркнула в дверь.
Я почувствовал себя оплеванным. Несколько мгновений тупо смотрел на дверь, обитую старой мешковиной, с вылезавшими из нее клочьями грязноватой ваты. Стало тоскливо-тоскливо и очень одиноко…
Все это возникало перед глазами каждую ночь, когда я сидел с берданкой на крыльце конторы. Днем вовсю пригревало солнце, можно было ходить без верхней одежды, а во время моего дежурства приходилось поднимать воротник шинели. Я ожидал настоящего тепла, ожидал, когда прогреется море: надо было помыться, выстирать нательное белье, гимнастерку. Я давно не был в бане, чувствовал — грязен, как черт. Несколько дней назад, сняв сапоги и засучив брюки, попробовал босой ногой воду — она была очень холодная.