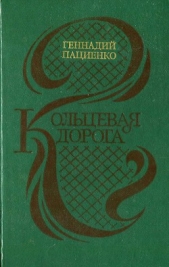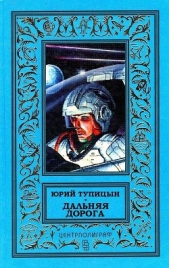Дом и дорога
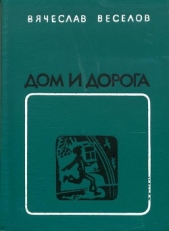
Дом и дорога читать книгу онлайн
Тема новой книги курганского прозаика, куда включены и ранее выходившие в Южно-Уральском и московских издательствах повести и рассказы, - духовное возмужание нашего современника, поиск им своего места в жизни и единственно важного дела. В путешествии сквозь мир молодой герой обретает чувство живой связи с современниками, осознает непреложную ценность понятий: дом, родина, долг, ответственность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Трудно с ними ладить, с бабами, непонятный они народ. Он-то ладно, бирюк, воспитания нежного не получил да и в красавцы, надо сказать, не вышел. А вот их второй пилот, тот ведь прямо артист. Стоит, бывало, у окна, высокий, красивый, и скучно так смотрит на улицу. Окликнет его кто-нибудь, он повернется: дескать, что тебе, а сам, похоже, и не видит, кто его позвал. Или в буфете: возьмет чашку кофе, сидит, смотрит в нее. Официантки вокруг увиваются, а он их и не замечает. Те к зеркалу, поправят прически и — к нему: привет! А он: привет! И снова глаза в чашку. И даже та, из отдела перевозок, не чета этим вертихвосткам, вроде случайно окажется рядом, стоит, смотрит на него, говорит что-нибудь. Только он все равно ничего не видит и не слышит, и вид у него точь-в-точь такой, будто он потерял что-то.
Бортинженер пробежал глазами по контрольному пульту, отмечая показания приборов, пошевелил плечами, поудобнее уселся, задумался.
...В парке им никто не встретился. Его дружок принес кусок рессоры, они сбили с качелей замок, очистили их от сырого рыхлого снега, и тут началось. Тяжелая, обитая железом лодка взлетала в весеннее небо, зависала в слепящей синеве и падала в тень кустов, в холод и запах талого снега. Они орали, передразнивая грачей, пели, выкрикивали случайные слова, а то, что казалось забытым, — ссора с мастером, потерянный инструмент, невыполненное задание по слесарному делу, — все это делалось ощутимей, и мысль о расплате, загнанная на дно памяти, росла, тревожила его и, наконец, заставила сказать: «Хватит, пошли».
Второй пилот
Второй пилот отпустил штурвал. Качнулась колонка управления: командир взял машину на себя.
Когда молодой летчик услышал звуки солирующего фортепьяно, самолет представился ему музыкальной фразой, материализованной в пространстве. Он улыбнулся этой мысли, а потом увидел всю картину — серебристая машина в ночи, полной звезд и ледяных игл, языки пламени из турбин и отсветы навигационных огней на плоскостях. Он еще улыбался, когда звуки фортепьяно больно ударили по сердцу: он узнал музыку.
Летчик открыл глаза. Перед ним мягкими толчками ходил штурвал.
Тот самый концерт. Концерт, который они слушали вместе. Кончено. Он сказал себе это и постарался сразу все забыть. Он не хотел больше думать о ней. Он говорил «кончено», а прошлое звучало, мелькало, проносилось перед ним, и он снова с мучительной остротой ощущал все, что ему довелось пережить в ее комнате, и снова видел белые стены домов, слышал звон трамваев, чувствовал запах пыли и битого кирпича, вязкую духоту летнего полдня. Он не хотел никаких воспоминаний, но, разбуженные музыкой, они бились в нем, живые, горячие. А ему не это надо было. Он должен все забыть, чтобы больше не отчаиваться, не тосковать, не ворошить обид, не ждать, не надеяться. Кончено. Ему это надо было понять еще тогда, в ее пустой комнате, но он не хотел понимать.
Впервые он слушал этот концерт вместе с ней. «Ты романтик, — сказала она. — Тебе понравится». Он все запомнил: ее с бледным лицом, красный бархат кресел, свинцовый блеск органных труб, даже цифры гардеробного номерка. В антракте они пили холодный вишневый сок. Его приносили в запотевших стеклянных кувшинах. В фойе к ним подошли трое нарядных ребят. «Знакомься, — сказала она. — Мои друзья». Молодые люди приветливо раскланялись и быстро заговорили с ней про штрихи фразировки и оркестровые линии. Впечатление было такое, словно они продолжают давно начатый разговор.
Она работала в издательстве, редактировала книги по искусству и сама что-то писала о керамике. Он стал бывать у нее, в маленькой комнатке на окраине города — тахта, шкаф с полками для книг и выдвижной доской секретера, стены, увешанные акварелями, масками, тарелками, на полках — терракотовые уродцы.
Они встречались: театры, выставки, концерты, потом ужин в ресторане, прогулка, взмах руки у подъезда или торопливый поцелуй и — «прощай». Она была то нежной и ласковой, то замкнутой, и почти всегда — неожиданной. «Ах, да, — говорила она, слабо улыбаясь, — я вспомнила. Как же я могла забыть». И эта рассеянность, то есть, наоборот, эта сосредоточенность на чем-то, что он даже представить себе не мог, лишали его равновесия... Напряженная жизнь, состоявшая из коротких встреч, недомолвок, надежд, размышлений, постоянного ожидания перемен. Но она не делала видимых усилий, чтобы разорвать или укрепить их связь. Однажды он заставил себя не звонить, и они не виделись неделю. Из этой демонстрации безразличия ничего не получилось. Выйдя как-то из кинотеатра, он поймал такси и уехал к ней.
Дверь открыли соседи. Забыв поздороваться и ни на кого не глядя, он прошел к ней в комнату. В халате и шлепанцах она сидела перед исписанными листами бумаги и курила. Он ничего тогда не мог придумать, кроме как сказать: «Давай поженимся». Не вставая с кресла, она притянула его к себе и поцеловала.
Утром он проснулся от звука ее голоса: «Кофе готов». Она стояла над ним в строгом сером костюме, озабоченная, далекая, почти чужая.
«Вот ключ, — сказала она. — Нет, нет... У меня есть еще один. Оставайся».
Она снова куда-то торопилась. С той самой минуты, когда он увидел ее впервые, — глядя прямо перед собой, она быстро уходила с вечерней толпой узкой длинной улицей, а он стоял, не решаясь пойти следом, — с той самой минуты его не покидало ощущение, что она уходит.
Он не знал ее прошлого, ревновал к нему, а ревность, оттого что она была беспредметной, не становилась менее мучительной... Задумчивость, грустно отчужденный взгляд. Откуда они? Всякий раз, как только он замечал, что она отдаляется от него, замыкается в себе, холодно и пусто становилось у него на душе. Ему хотелось причинить ей боль, увидеть, как она замечется, заплачет, сникнет. Ее спасительная сдержанность, насмешливый ум — он робел перед ними. Что это? Женский опыт? Возраст? Он видел себя: послушный, воспитанный мальчик. Все тот же, что и лет семь-десять назад. И все так же рядом была мать, и снова летом, как при отце, они уезжали на юг, гуляли по Ялте, заходили в магазины, кафе или останавливались у тележки с газированной водой. Боковым зрением он замечал восхищенные взгляды прохожих. Им нравилась эта пара — серьезный, красивый сын и молодая мать. Никто не сказал бы про нее — молодящаяся, она ведь даже седину в волосах не закрашивала. Мать сильно изменилась после смерти отца. Никогда не работавшая раньше, она вдруг сделалась энергичной и деловой, целыми днями пропадала на службе и даже брала какие-то бумаги домой, что-то вычитывала, стучала на машинке. В последнее время у нее вошло в привычку провожать его в рейс. Он тяготился этой опекой, знал: над ним посмеиваются в отряде. И вот он шагал, мрачный, подняв воротник пальто, и рядом мать, нарядная, оживленная. Она улыбалась и раскланивалась со знакомыми, ее уже многие знали в аэропорту.
Он заставлял себя рассуждать-спокойно. Вот она просто любит, и ничего больше ей как будто не надо. Любит, пока любится, не рассуждая, ничего не требуя взамен. Может, в любви вовсе и не надо стараться понять, какая она, твоя любовь. Да и что это была бы за любовь, если она начиналась с оценок и сравнений. Наверное, он умничает, мудрит больше, чем следует?. Нет, здесь он честен. Ведь на первых порах он и не думал ни о чем, кроме свиданий, жил от встречи до встречи, радовался малости, а вот теперь стал требовательней, нетерпимей. Я люблю, значит я хочу, чтобы любили меня. Чего же я хочу? Ясности? Равновесия? Удобств? Удобной любви? Но в том-то, должно быть, и суть любви, в том ее мука, что она сама неопределенность. В конце концов, думал он, любовь не обязательно требует взаимности. Любить — уже довольно.
Он больше не заговаривал с ней о будущем, видя, как решительно отводит она эти разговоры. Пусть будет так, думал он. У каждого свой образ любви, свой идеал. Один любит, другой позволяет себя любить. Старая песня, надо бы понять. Пусть все остается, как есть. Но в этом его отказе, в этой мере, такой радикальной и такой простой на вид, простоты не было, потому что оставалась все та же неутоленность.