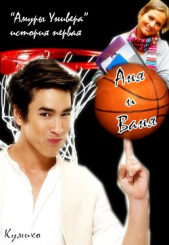Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все мы хотели бы зваться искателями «правды, а не счастья». Но, по совести, многие ли согласились бы принять трагическую судьбу настоящего искателя, — например Паскаля, или хоть Блока? И, узнав, что был счастливый человек, невинно и вопреки всему счастливый, — как не обрадоваться невольно, что такой был?
ОБ ОДНОЙ КНИЖКЕ
Германец, если он «наци», может не возбуждать в нас никаких особенных чувств. Другое дело, когда таким «националистом» становится русский, постепенно вбирая в себя характерные черты известной «идеологии». Заранее можно сказать, что это человек или вообще не способный относиться с пониманием и уважением к русским культурным ценностям, или потерявший эту способность. Эти ценности — явления и люди — годятся ему лишь для того, чтобы «использовать» то или другое имя, исказив образ человека, его носившего.
Пример такого использования — берлинская тоненькая книжка «Розанов в последние годы» неизвестного русского автора. Задача ясна: показать, что «Розанов — наш!», так как был яростным «антисемитом» и «православным».
С автором я, конечно, разговаривать не буду. Но хочу обратиться к тем, кому книжка попадет в руки и кто Розанова, может быть, мало знают (кто ныне — что знает!). Не защитить Розанова перед ними хочу я, а скорее их защитить от искаженного образа одного из гениальных наших писателей, притом исключительно своебытного. Я, конечно, понимаю, что о таком сложном явлении, как Розанов, в нескольких строках не расскажешь. Ограничусь, поэтому, самым главным, без чего к Розанову подойти нельзя и что надо помнить: это был человек величайших и самых редких внутренних антиномий («ноуменальных», как он говорил). А притом необходимо еще знать, что писанье у него было не писательством, а, по его выражению, функцией, как бы дыханьем, «выговариванием» полноты ощущения каждой своей минуты. Так он сам определил; и потому «стиль» его (если это стиль) воистину не подражаем: читаешь не рассуждения писателя, а слышишь человеческий голос. («Разве я рассуждаю? Я только плачу и смеюсь».)
Если, при глубине антиномичности, «выговаривается» у него каждая его минута, — не ясно ли, что ловким подбором цитат можно сделать из Розанова что угодно?
Вот еврейский вопрос. Всю жизнь Розанов ходил около евреев, как завороженный. Не забудем: весь он жил только Богом — и миром, Его плотью, Его теплотой. В еврейской религии для Розанова так ощутительна была связь Бога с плотью мира, с полом, с рождением, что евреи не могли его не влечь к себе. Он был к евреям «страстен»… часто пристрастен.
А Христос? К Личности Его он тоже был страстен. Тоже, как к евреям, то прилипал — то отталкивался от Него. Он, казалось Розанову, обидел людей, отнял у мира его светлость и теплоту. Выгнал из дома в стужу: иди, не оглядывайся, оставь жену, мать, детей… Отсюда его хри-стоборчество, книга «Темный Лик».
Церковь? Православие? Духовные отцы считали его «еретиком», иные «безбожником», но относились к нему с благодушной приязнью: он любил плоть Церкви (обряды), жена такая православная; сам Розанов, пророчески предсказав, что умрет «с ними», добавил: «…конечно, духовенство мне всех (сословий) милее… Но, среди них умирая, я все же умру с какой-то мукой о них».
И вот мое последнее утверждение: Розанов, каким всю жизнь был — таким и остался до смертной минуты. Внешние катастрофы, и тяжкие личные, и та общая, русская, которая и убила его, — только углубляли внутреннюю трагедию этой души. Для тех, кто вздумает поверить, что если, мол, Розанов и был «когда-то» за евреев, то в последние годы покаялся, изменился, перешел в православие и стал убежденным гонителем евреев, — я приведу два свидетельства, два «выго-вариванья» его души:
«Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская, как пламя обжигает меня. Ибо пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью, задохнется народ мой».
Не написано ли это после «раскаяния», в Лавре? О, нет! До войны, в самый разгар розановского «юдофильства», до Флоренского (умного и жестокого лаврского священника, о нем Розанов сказал однажды: «в нем что-то ползучее…»). А что писалось-выговаривалось в Лавре, в последние месяцы жизни?
«Евреи — самый утонченный народ в Европе. Все европейское грубо, жестко по сравнению с еврейским… И везде они несут благородную и святую идею «греха» (я плачу), без которой нет религии… Они. Они. Они. Они… всунули в руки пресловутому человечеству в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева из евреек… Социализм? Но ведь он выражает мысль о братстве народов, и они в него уперлись».
Что же, переменился Розанов? Нет, он верен себе. Автор берлинской книжки не приводит, конечно, этой предсмертной цитаты. Ему нужна одна первая. Ему нужен Розанов-юдофоб; вернее — нужна юдо-фобия, а попалось «имя», которым кое-как можно ее подпереть — тем лучше.
Порадуемся, что подобные книги у нас редки. Слишком все это чуждо не только розановской, но каждой русской душе.
С ХОЛОДНЫМ ВНИМАНИЕМ
Шарль Пэги, в своих «Поисках истины», сказал: ни один человек не живет без метафизики. Если у кого-нибудь она отсутствует — это тоже метафизика.
Тут говорится, конечно, не о «метафизике» в том смысле, в каком слово это мы привыкли видеть в «умозрительной философии», и Пэги разумеет его как внутренний, чувственно-разумный, человеческий комплекс. Его можно называть и как-нибудь иначе, во всяком случае отсутствие его не менее важно, нежели присутствие, и с неменьшим правом может быть названо тоже своего рода метафизикой. Ею мы и займемся.
Рост «метафизики отсутствия» начался уже давно. Людям совсем наивным, не могущим отделить слова «метафизика» от чего-то смутно-отвлеченного, парадоксальным покажется утверждение, что вся реальная тяжесть наших дней, круг реальнейших мировых событий, — все это, в громадной степени, исходит из болезни, заразившей человечество, — метафизической пустоты; является ее следствиями. Просто зрителю, в потоке событий активно не участвующему (а таково положение русской эмиграции), не трудно в этом убедиться: стоит лишь вырваться на минуту из давящей атмосферы и взглянуть на то, что происходит, a vol d'oiseau или как бы «с того света». Он отчетливо увидит не только контуры больших событий, но и связь их с мелкими фактами жизни: ведь они тоже следствия — того же.
«Метафизика отсутствия», как я говорю, делает свое дело незаметно и аккуратно. Она, прежде всего, выедает понятие из его оболочки — слова. Все слова налицо; но если это лишь пустые оболочки — почему не играть ими, как угодно? Почему ложь не называть правдой (и обратно), миром — войну, почему слово «честность» исключает замышление измены? Почему не звать рабство — свободой, власть сталинской опричины — в зависимости от момента — коммунизмом, или народовластием, демократией? Почему? Нет никакой причины: ведь никто за слова свои не отвечает, — перед кем отвечать? Да и некогда о таких вещах задумываться: впору крепко держаться за свой интерес (действительный или воображаемый) с ежеминутной оглядкой, как бы тебя не окрутили. Но из-за общей перепутаницы безответственных слов часто случается, что тот или другой начинают действовать во вред собственным интересам. Еще бы! Ведь с потерей значения слов, подлинного смысла жестов, действий, непременно теряется и чувство меры. Оба европейских диктатора достаточно себе этим навредили. (Если третий, главный, пока радуется — неизвестно еще, чем эта радость завершится.)
Кстати, об отсутствии чувства меры. Удивляться, что оно так характерно для нашего времени — нельзя, конечно. Зачем и, главное, чем мерить поступки и слова, когда позабыто их первичное значение? «Tout се qui est exagere est insignifiant» [150]— да, если не проявляется в «мировых масштабах»: там оно, незначительное, делается уже злокачественным. А вне этих масштабов, вне политики (хотя где теперь нет у нас политики?), просто в обыденной жизни, с какой легкостью люди впадают в «незначительность», т. е. теряют чувство меры! Вот, хотя бы, статья Н. А. Бердяева в защиту Г. П. Федотова от профессоров Богословского института, протестовавших, как известно, против политических взглядов последнего. В сути своей статья ничего нового не представляет; вопрос о несвободе в исторических христианских церквах известен, он ставился уже в те далекие годы, когда Н. А. Бердяев не был ни православным, ни даже идеалистом. Но не в сути дело, а в том замечательном отсутствии меры, с каким наш религиозный мыслитель обрушивается на православие, ставя перед ним преимущество католичества, находя, наконец, больше христианства в Л. Блюме, нежели в представителях православной церкви… Жаль, когда нечто, в основе правильное и, может быть, нужное (как в данном случае) заваливается ворохом преувеличений, погибает от бесчувствия к мере.