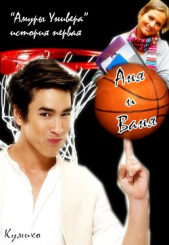Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И с первыми словами -
О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!
невольно подумалось: зачем? Зачем это им, здесь?
Он кончил стихотворение. Публика похлопала. Минута — полминуты молчания. Но вот — тот же голос и — то же самое стихотворение. Слушатели, кажется, не сразу поняли, что это оно же, удивились или смутились — не знаю. То самое? Или похожее?
О сердце, полное тревоги…
Второй раз оно было прочитано медленнее. И кончилось. Хлопки, но какие-то полурешительные, словно задумчивые. Опять минута молчания. И опять, в третий раз, тот же ровный голос, те же отчетливые слова:
О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!
О как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!
И опять последнее:
Душа готова как Мария
К ногам Христа навек прильнуть…
Должно быть, встал кто-нибудь первый, с «сердцем полным тревоги», за ним поднялся второй, третий… встали с мест почти все, явно не понимая, зачем. А когда опомнились, зашумели неистовыми аплодисментами (не зная, что и кого одобряют) — чтеца перед ними уже не было.
Вот единственный случай, когда мне показалось, что «сердце» стихов доходит все-таки до «многих» — до публики.
Может ли магическое стихотворение быть «плохим»? Да, в смысле не строгого соблюдения правил грамматики и стихосложения. Это не значит, что его способен написать правил не знающий, самоучка с «вдохновением». (Вдохновение вообще есть нечто подозрительное.)
Но когда Лермонтову издатель, друг его, заметил, что нельзя сказать «из пламя и света рожденное слово», поэт долго думал, потом махнул рукой: «пусть остается». И правда, пусть они остаются как есть, эти волшебные строки.
Стихотворение магическое может также быть (или казаться) банальным: вот, например, одно «переводное» (подлинник, кстати, совсем не магичен), написано оно без изысканности, даже с рифмами через строку; а редко встречается равнодушный к строкам,
«По синим волнам океана…» и т. д.
Почему по «синим»? Лучше бы по «серым». Но не хочется ничего исправлять. Пусть будет, как есть.
Примеры магических строк можно бы от Лермонтова продолжить до Блока… и дальше Блока, до наших эмигрантских поэтов. Но с ними дело сложнее. И вообще-то о современниках писать трудно (не всякий ведь еще себя проявил), наши же парижские поэты, при чрезмерной чувствительности, не понимают, что нельзя писать, сравнивая одного поэта с другим, искать, кто хуже, кто лучше, а важно в каждом открыть его единственный «лик» и сердце «его» стихов… Поэты чувствительны к отсутствию сравнений; это, признаюсь, и останавливало меня от обстоятельного рассмотрения всех — и каждого из наших стихотворцев — по моему методу, конечно.
Впрочем, останавливало и другое. «Как, — говорят мне, — в наше грозное время, среди всех ужасов и безумных событий, — писать о стихах?.. До поэзии ли нам? Вот и Тютчев, которого вы так любите, и он говорит:
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное…».
Тютчева я, действительно, люблю. И ка упрек, что я пишу о стихах, что мы занимаемся поэзией, лучше всего ответить тютчевским же стихотворением «Поэзия».
Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих зыбей,
В стихийном пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная — к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре.
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.
О СЧАСТЛИВОСТИ
(Т. И. Чулков)
Не могу сказать, чтобы Г. И. Чулков, недавно умерший в Москве, был для меня воспоминанием особенно ярким. Он появился в Петербурге в середине, кажется, 1904 г., в тот первый предреволюционный период, когда многое кончалось, многое изменялось. Между прочим, и журнал наш, «Новый Путь», уже потерял тогда свою физиономию и главное значение: запрещены были Религиозно-Философские Собрания, затем и печатание оставшихся отчетов; запрет коснулся вообще вопросов, наиболее нас заинтересовавших. Вместо ушедшего Перцова, редактором стал Философов. Ушел также бессменный секретарь журнала (и Собраний) Егоров. Мы не знали, будем ли, и даже хотим ли (имея другие планы) продолжать журнал. Но, пока что, секретарь был нужен, и кто-то (может быть, Ремизов?) рекомендовал нам «начинающего поэта» не у дел — Чулкова.
Собственно этими несколькими месяцами его секретарства наше «общение» с Чулковым и ограничивается, если не считать беглых и случайных встреч в последующие годы. Но, хотя «общение», — гораздо более формальное, чем это ему казалось, — было недолговременно, оно дало нам определенное понятие о характерных внутренних свойствах этого человека. И — самое замечательное — что таким, каким он был тогда, в молодости, — он остался навсегда, в течение долгих лет, через все смены «эпох»: об этом свидетельствует книга его воспоминаний, изданная в Москве, в 30-х годах.
Уже тогда он, молодой человек болезненного вида, с порывистыми движениями, придавал особую какую-то значительность всему, что с ним случалось: сначала своей студенческой ссылке, потом действиям в Петербурге, своим настроениям то «протеста» (вообще), то безнадежности. В моих «домашних» пародиях он всегда изображался «рвя на себе волосы». Со всем тем он отнюдь не был лишен симпатичности, так как в нем чувствовалась глубокая искренность. Он обладал редкостным — и счастливым! — даром, который можно назвать даром «самомечтания».
Если, по общим отзывам, способности Чулкова, литературные и умственные, были весьма средние, при отсутствии к тому же самостоятельности, — сам он никогда этого не подозревал. С подкупающей искренностью говорит он, — в книге «Годы странствий», — о себе, каким действительно себя видит, мечтая: сначала пылким революционером, потом известным писателем, критиком, драматургом, руководителем журналов, идейным новатором («мистический анархизм»), интимным другом «знаменитых» современников. Даже передавая неверные факты, — он не лжет: он верит, что так было. «Это не исповедь автора», говорится в предисловии; автор хочет лишь показать «эпоху» и ее людей. Но эпоха и люди, если показаны, то со стороны отношений их к самому автору — только.
Повторяю и подчеркиваю: дар «самомечтанья» — большой дар, потому что это дар счастья. Настоящего, может быть единственного здесь, счастья. Мне попалось недавно, в блоковских дневниках, одно мое (забытое) Блоку замечание: «Вы человек, который ищет правды, а не счастья». Замечание ему понравилось, он пишет даже, что хотел бы начать с него автобиографию: «Был человек…» и т. д. Судя по тому, что мы знаем о Блоке, о его внутренно-трагической судьбе, — это, пожалуй, верно. Во всяком случае, счастья у него не было. А Г. И. Чулков, судя и по книге, и по тому, что мы о нем знали, — во все «годы странствий», был неизменно счастлив. Воспоминания доведены лишь до начала февральской революции; но если есть продолжение, и мы его когда-нибудь прочтем — вряд ли и там узнаем новое о Г. И.: счастье «самомечтателя» мало зависит от внешних обстоятельств, от эпох. И слава Богу, что так.